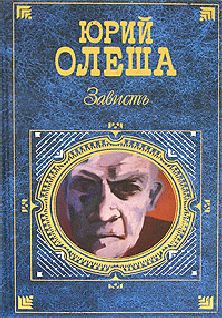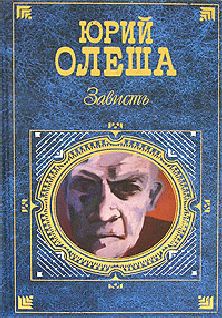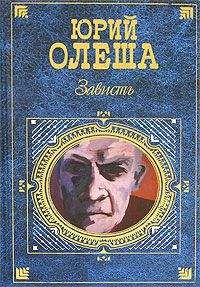Лев Кузьмин - Олёшин гвоздь
Олёша чуть не задохнулся:
— Врёшь!
— К чему врать? Не вру.
И Арсентий опять, как тогда на реке, провёл шершавой ладонью по Олёшиным волосам, а потом шагнул было к двери, да там вдруг остановился.
Остановился, подумал, медленно поднял голову и сказал маме:
— Ты, Анна Матвеевна, вот что… Ты на меня и на мою Марью за тот разговор не обижайся…
У мамы лицо сразу потемнело. Она хотела взяться за концы платка, но платка на голове не было, и руки упали.
— На что обижаться? На правду?
— Не такая уж это правда! — взмахнул и словно что-то отсёк ладонью Арсентий. — Я, Анна Матвеевна, подумал, снова прикинул и теперь полагаю: Фёдор твой ещё вдруг и вернётся. Ну, мало ли что? На войне случается по-всякому! Я об этом и Олёше сказал, не сердись. А меня за то, что я сразу тебя хоть каплю не обнадёжил, прости.
И тут мама тоже подняла голову, схватилась за верхнюю прозрачную пуговку кофты и хоть горько, но всё-таки улыбнулась:
— Спасибо вам.
За окошком в это время забарабанило по мокрой листве ещё сильнее. Раскатисто, но уже не сердито проворчал далёкий гром, и мама опять глянула на Арсентия, вздохнула:
— Льёт-то как… Измочит вас до нитки. Переждали бы…
— Не сахарный, не размокну, — засмеялся Арсентий. — Побегу Чижа в обратный путь сватать. Гром попритих — Чиж, поди, успокоился.
— Спасибо и ему. Обоим вам спасибо, — опять поблагодарила мама.
Олёша кинулся к окошку и через потное стекло увидел, как высокий, чуть сутуловатый Арсентий, сильно при каждом шаге отмахивая правой рукой, идёт прямо по лужам к чёрной от дождя калитке. Олёша посмотрел, как эта калитка распахнулась, потом закрылась, вдруг обернулся к маме и показал ей на окошко пальцем:
— Вот!
— Что «вот»?
— Ты, мамушка, говорила, надеяться нам не на кого. А на Арсентия нельзя, да?
Мама подхватила Олёшу под мышки, поставила на печной приступок, на лесенку:
— Можно, можно. На Арсентия Лукича можно. Полезай на печку, обсохни, уймись.
Но Олёша перешагивал с приступка на приступок и всё не унимался:
— А на Чижова надеяться нельзя, да? А на Дружкова нельзя, да? А на Цыгана нельзя, да?
— Кто такой Дружков? Кто такой Цыган? — улыбнулась мама. — Весь белый свет у тебя в приятелях?
— Не весь, а плотники на реке! Я теперь плотником буду. Мы с бригадой для тебя новый дом построим. И для тебя, и для папки, если он раненый придёт. Он придёт — а я уже плотником буду, таким, как Арсентий, вот!
— Ну, будь, будь, — подсадила мама Олёшу на самую печку и с тихой улыбкой спросила: — Гвоздя-то своего не жалко теперь?
Олёша мигом развернулся на печке, свесил вниз голову, широко распахнул глаза:
— Ты что? Я же его не кому-нибудь подарил! Я же его для всех подарил! Теперь у нас в городе свой хлеб скоро будет. У нас теперь знаешь, как всем хорошо будет? Знаешь?
— Знаю, знаю… Теперь знаю, — сказала мама.
А из-за маминой спины с тёмной переборки смотрели весёлые человечки. Они махали Олёше тонкими руками, они словно поняли весь разговор и теперь просились к нему, к Олёше, в плотницкую компанию.
Милейший тихонько подлез под бок мальчика, зажмурил зелёные глаза, уютно замурлыкал. Он тоже считал, что всё теперь будет хорошо. Он тоже был согласен, что надеяться им с Олёшей и с мамой Аннушкой всё-таки есть на кого и запирать калитку на замок больше никогда не надо.
Художник О. Коровин