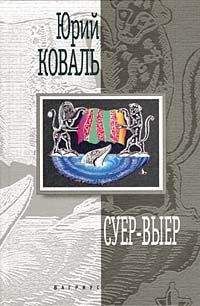Лев Рубинштейн - Музыка моего сердца
— Бонапарт тоже обыкновенный человек! Теперь он будет топтать ногами все человеческие права, следовать только своему честолюбию! Он будет ставить себя выше всех других и сделается тираном!
— Мейстер Людвиг, прошу вас, успокойтесь, — говорил Рис, — ведь вам в конце концов до него дела нет…
— Как это? — рявкнул Бетховен. — Как это мне до него дела нет?
Он подбежал к шкафу, порылся и вытащил из него заглавный лист новой симфонии с надписью: «Бонапарту». Он с треском разорвал этот лист сверху донизу и выбросил обрывки в окно.
— Это всё! — кричал он. — Пусть Наполеон завоюет всю Европу, но на мои владения он не смеет посягнуть!
В августе третья симфония Бетховена была исполнена в имении князя Лобковица, под названием «Новая большая симфония эс-дур». Она была посвящена «Памяти великого человека».
Никто никогда не спрашивал Бетховена о том, кто этот великий человек.
Бетховен ни слова не сказал о Наполеоне. Бывший полководец республики превратился для него в фарфоровую фигурку и занял своё место на полке в ряду других фигурок.
Эта симфония была больше, чем Наполеон, больше, чем все дела Наполеона. Она открыла новую эпоху в музыке и стала бессмертной. Это была симфония о человечестве.
У Лобковица слушали симфонию вяло и недоуменно. Она была непомерно длинна и поражала своими взрывами, нарастаниями, поисками и уходами вдаль от основной темы. Даже ученик и друг автора Рис не мог понять, «зачем всё это нужно», и думал, что оркестр князя плохо играет. Князь вежливо поздравил Бетховена, но не сказал ни слова о самой симфонии. Гости перешёптывались о том; что «новая музыка» тягостна и беспокойна, но, без сомнения, сам господин ван Бетховен есть замечательный музыкант, может быть, гений, а гениям свойственны капризы. Бетховен за парадным ужином молчал, что вполне извинялось расстройством его слуха. Гости знали это, но делали вид, что ничего не Замечают. Вечер прошёл принуждённо и скучно.
В начале апреля 1805 года симфония была исполнена публично. При исполнении первой части кто-то крикнул на весь зал: «Готов заплатить ещё крейцер, чтоб перестали играть!» Хлопков было мало, автор не вышел кланяться, публика разошлась быстро.
Вечером Бетховен остался один, как всегда. Перед ним на пюпитре лежала партитура законченной вещи, о которой ему не полагалось больше думать.
Риса он выгнал из дома за то, что наивный Фердинанд пробовал было утешать учителя. Бетховен взял перо и написал под заголовком симфонии: «Героическая».
Несколько минут он стоял возле пюпитра, свесив руки и голову.
Потом вздохнул и уселся возле рояля, подперев кулаком подбородок.
— Итак, — сказал он, — надо работать!
* * *Жизнь его была полна трудов, мучений, надежд, взлётов и разочарований. Глухота была только одним из ударов, которые на него постоянно сыпались. И может быть, самым тяжким из его несчастий было вечное одиночество.
«Ты уже не можешь жить для себя, — писал он, — ты должен жить только для других. Нет больше счастья для тебя нигде, кроме как в твоём искусстве. О господи, помоги мне одолеть самого себя!..»
Он одолел самого себя. Он не слышал, как исполнялись лучшие его вещи. Он знал, что многое из того, что он создал, станет понятно только будущим, далёким поколениям. Они услышат и оценят.
Он умер 26 марта 1827 года. В час его смерти над Веной пронеслась небывалая гроза. Выпал снег. Небо было свинцово-чёрное, гром катился сплошной волной.
Умирающий долго лежал с закрытыми глазами. Казалось, жизнь его покинула.
И тут комната словно вспыхнула от блеска молнии на снегу, а за ней раздался грохот, от которого весь дом вздрогнул.
Людвиг ван Бетховен открыл глаза, поднял руку со сжатым кулаком и погрозил небу. Затем рука его упала и дыхание прекратилось.
Дайте место Фигаро!
Двурогий серебряный месяц повис над итальянским городком Чепрано. На тёмно-синем небе торчали зубцы тюремной башни. Каменные улочки то ползли вверх ступеньками, то падали по крутому спуску и вливались в маленькую площадь, выложенную плитами.
Всё было белое и чёрное. Всё замерло в этом городке, где благоразумные люди ложились спать с заходом солнца.
В просторе ночи гулко пробили церковные часы. Это был звон для благоразумных людей. Он сообщал им, что ночь ещё не кончилась и что они обязаны спать в своих кроватях, пока их не позовут к ранней обедне.
Но в Италии, кроме людей благоразумных, есть ещё люди неблагоразумные. В тишине ночи звякнула гитара и приглушённый голос сладко пропел:
О, как молодость прекрасна,
Но она мгновенье длится,
Будем нынче веселиться,
А до завтра ждать опасно…
Где-то хлопнула дверь балкона и прозвенел смех. Смех в неустановленные часы, когда благочестивым горожанам полагается спать!
Но, может быть, это был не смех, а плеск воды? Человек, который ночью вышел из гостиницы в длинном чёрном плаще, остановился и прислушался. Кругом всё притаилось в спокойном свете луны. И вдруг тот же голос запел:
Меня ты встретишь, тебя я встречу…
— Какого дьявола поют они арию из «Танкреда»? — пробормотал человек в плаще и, крадучись, стал пробираться к площади.
Голос осмелел и, добравшись до верхних нот, развернул всю свою мощь — так, как поют в Италии, где голоса тем сильнее, чем они выше.
Под балконом приземистого домика, в тени, шевелилось несколько человек — двое с гитарами, один со скрипкой. Третий пел, а четвёртый стоял поодаль, опираясь на трость и закрыв лицо платком.
— Наёмная серенада! — прошептал человек в плаще.
Да, это был наёмный оркестр. И певец тоже был наёмный. Нанимателем, несомненно, был тот, кто не пел, а закрывал лицо. И видимо, все они были люди неблагоразумные.
Певец закончил под аккорд гитар. Наступило молчание. На балконе никто не шевелился.
— Э, синьор, — сказал певец, — тут ведь ничего не дождёшься. Барышня спит. Пожалуйте плату.
— Подождём ещё минуту, — отвечал тот, кто закрывал лицо.
— За три байокко я согласен спеть ещё раз, — продолжал певец, — а то ведь скоро начнёт светать, синьор, и долго ждать невозможно.
— Куда вы торопитесь? — раздражённо проговорил наниматель.
Певец пожал плечами и прислонился к стене.
— Прошу прощения, синьоры, — заговорил человек в плаще, — я здесь человек посторонний, но осмелюсь вмешаться. Арией из «Танкреда» вы никого не разбудите. Скорее, усыпите.
— О! — холодно произнёс наниматель. — Откуда вы явились, синьор?
— Из гостиницы. Я еду из Неаполя в Рим и заночевал в вашем уважаемом городе.
— И вы утверждаете, — запальчиво сказал певец, выходя на лунный свет, — и вы утверждаете, что арией из «Танкреда» можно усыплять людей?
— Да, я это утверждаю!
— В таком случае — о! — в таком случае вы ничего не смыслите в музыке! Вы знаете, кто сочинил «Танкреда»?
— Я догадываюсь, синьор!
— Догадывайтесь хоть до утра! Это сочинил Россини!
— Россини? Я так и думал! Человек, который не в состоянии отличить ля от ре!
— Тогда, синьор, позвольте вам сказать, что вы понятия не имеете о Россини!
— Как это я не имею понятия о Россини! Его нелепая музыка лезет мне в уши на всех остановках от Неаполя до…
— Остановитесь, синьор! Великий Россини! Маг и волшебник!
— Пустяки! — самодовольно заявил приезжий. — Ваш Россини не стоит и полбайокко по сравнению с Паизиелло!
— О! Паизиелло! — презрительно проронил наниматель, — Древняя развалина! Старается ходить на цыпочках и приседает, как старая дева, через каждые три такта!
— Ну нет, синьор, не говорите так! Я не вижу ничего плохого в том, что Паизиелло стар. Зато он итальянец с головы до ног. А ваш Россини просто ученик немцев!
— Ойме! — хором сказали все присутствующие, кроме старого скрипача, который исподлобья смотрел на приезжего, прижав к груди скрипку.
— Россини — ученик немцев? Да вы с ума сошли, синьор! Послушайте, вы сами, вероятно, немец?
— Ну уж никак нет! Я родился в Пезаро!
— Боже мой, вы земляк Россини!
— Да, я его земляк. И я утверждаю, что Россини смешон! Чудовищен! Убог! Я знаю Россини! Я знаю его наизусть!
Голоса становились всё громче.
— Что он делает! — кричал приезжий. — Он крадёт у самого себя! Он переносит вступление из «Пробного камня» в «Танкреда», да так, что этого никто не замечает!
— Ну, — небрежно заметил наниматель, — какое значение может иметь вступление? В это время публика в театре рассаживается по местам…
— Нет, синьор, вы ошибаетесь! Это лень, и больше ничего! Ваш Россини лентяй! И какая вялость мысли! Какое однообразие! Какая болтовня! Да он просто попугай! Он просто… тьфу!
— Синьор! — грозно возопил певец. — Как вы смеете говорить про маэстро Россини, что он просто «тьфу»?