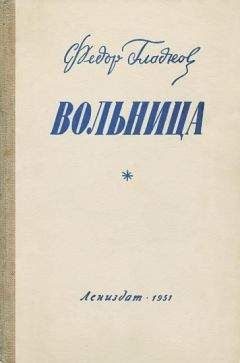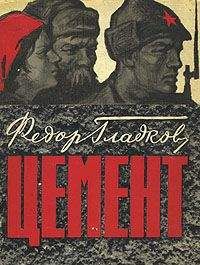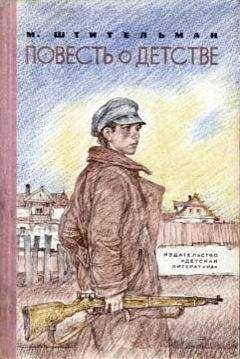Федор Гладков - Повесть о детстве
- Снегом ей ноги оттирать надо - обморозилась. Сейчас принесу; Олеша, помоги... Веревки-то развяжи - связали-то сгоряча туго. Промерзла веревка-то, к коже прикипела...
Он выходит из избы, а брат с желтой шерстью на щеках и подбородке становится перед матерью на колени и старательно распутывает узел.
- Эх, Настя, Настя, - смущенно и ласково бормочет он. - И чего это с ней попритчилось? Беда-то какая!.. А баба-то какая хорошая!.. Мамынька уж больно ее любит.
Мать лежит неподвижно, вся заплетенная вожжами. Руки ее заломлены за спину, рубаха изорвана в клочья, и тело ее обнажено, запачкано кровью. Лицо мертвое. Ноги белы как снег, а может быть, они покрыты снегом. Отец стоит перед нею, как в столбняке, и дышит глубоко, порывисто, со свистом. Бороденка его прыгает, а руки все время елозят по шубе и под шубой. Он с остервенением срывает с себя шапку, бросает ее на пол и бессильна садится на лавку.
Дед слезает с печи и кричит на отца:
- Ну, чего расселся, чурбак? Снимай шубу-то!.. Мозги потерял?.. Запутали, как овцу, галманы...
И сам натягивает клочья рубахи на голое тело матери Входит Терентий со снегом в поднятой поле шубы и высыпает его на солому. Отец только сейчас приходит в себя:
он схватывает полную горсть снега и изо всех сил начинает растирать им ноги матери.
Бабушка подходит к ней и щупает ноги:
- Зашлась вся... Обморозила ноги-то... Катёна, давай скорее рубаху-то!
Катя опять накидывает на плечи шубейку и выбегает за дверь. На бегу она толкает Иванку Юлёнкова и орет на него:
- Чего столбом стоишь-то? Иди домой!.. Только по шабрам нос и суешь...
- Чай, вы мне всех ближе, Катёна... Все-таки Настёнка спасибо скажет... Баню истопит, брагой напоит...
Когда дед с Алексеем распутывают веревки, а отец трет ноги снегом, тело матери безжизненно трясется.
Терентий с конфузливым вниманием смотрит на нее и оправдывается, как виноватый:
- Ты, Настенька, не суди меня: это я тебя веревкой-то связал... Мои вожжи-то... Ты их, Олеша, захвати с собой.
Ведь ежели бы не связал, чего бы с ней было?.. Вырвалась бы и замерзла...
Он кланяется матери и, сгорбившись, идет к двери. У порога он толкает Юлёнкова.
- Поохотился, дурак... Шагай домой со своим коломто... За своей женой гляди... Чеверелый, а заездил бабу-то...
Пойдем-ка, нечего тебе здесь делать...
И уже из сеней говорит так же виновато в открытую дверь:
- Ты, тетка Анна, погляди, не перебил ли ей Иванка ноги-то.
Вбегает Катя с холщовой рубахой в руках, а за нею один за другим входят, толкаясь плечами, Сыгней, Тит и Сема.
Они молча раздеваются и оторопело смотрят на мою мать.
Сыгней, кудрявый парень с густыми бровями, с веселыми, смешливыми глазами, никак не может погасить улыбки на лице. Тит, с белобрысым пухом на щеках, курносый, замкнуто садится за стол, вытягивает из угла Псалтырь и перелистывает его, безучастный ко всему. Сема, парнишка, тоже кудрявый, похожий на Сыгнея, с боязливым любопытством смотрит на возню около матери. Олеша деловито сматывает веревку в руку и зыбко, словно крадучись, выходит из избы.
Тело матери по-прежнему лежит мертво, маленькое, жалкое, истерзанное. Катя с бабушкой с привычной ловкостью надевают на нее рубашку, а отец продолжает тереть ей ноги снегом. Бабушка стонет и всхлипывает.
- Господи, господи! Как ребенок лежит... Пальцем перешибешь, не то ли что веревками связывать. Обмерла-то как... хоть в гроб клади.
- А ну тебя, мамка!.. - возмущается Катя.-Тут силу лошадиную надо, чтобы эдакое перенести. Мы ведь на ней как на одре ездим. И не думали человека пожалеть.
Дедушка встает с пола и, как хозяин, который сделал что нужно вовремя и заботливо, лезет на печку.
- Читай, Титка, с первого псалма!..-набожно прикрикивает он. - Вслух пой! Бес-то еще, видишь, не вышел из нее... А потом канун надо отстоять.
Катя по-прежнему сердито кричит:
- Тебе бы только канун да канун, тятенька. Надо знахарку Лукерью позвать. Лечить надо...
Ей никто не отвечает, даже дед не цыкает на нее, как обычно.
Тит крестится и гнусаво, нараспев читает Псалтырь.
Отец поднимает мать, как девочку, несет ее на кровать и кладет рядом со мной. Я плачу, обнимаю ее, но она холодна, как покойница.
Входит Паруша, большая и сильная, как мужик, старуха, в шубе, накинутой на плечи. Она сурово молится, потом подходит, тяжелая и грузная, к матери и, сдвинув мохнатые седые брови, всматривается в ее лицо. Серые усики над углами рта скорбно вздрагивают, а в глазах искрятся слезы.
Она наклоняется над матерью и целует ее. Потом трогает пальцами ее щеки, шею, плечи и качает головой.
- Люди и лошадей жалеют, - обличительно гудит она бабьим басом, - а вы сироту измор довали. Бог помнит это, Анна... А ты, Фома, ответишь при смерти. Кто бабенку заставлял камни ворочать на сносях-то? Выкинула она тогда... С тех пор и мается.
Дед рассудительно отвечает ей с печи:
- Судья ты, что ли, Паруша? Ты за своими невестками следи...
- Я-то слежу. У меня невестки - маков цвет. А ежели им работа не под силу - первая помогу. Вот парнишку-то как бы не попортили. Вишь, как обневедался: личишко-то помертвело. Один из всех мучается. Милый ты мой, ковылек шелковый!
И она гладит меня по голове. Ее огромная рука легко и нежно щекочет мое лицо. Вдруг она властно и сурово приказывает:
- Анна, Катя, несите воды да утиральник! Обмыть ее надо. Чего вы глядите? В крови вся. Да и в себя чтобы пришла. Водица-то, она, матушка, исцеляет. Ну-ка, Анна, проворней!.. Вася, шубу на нее накинь!
Все как будто ждали этого властного голоса и хлопотливо зашевелились.
И мне было приятно, что все слушаются Парушу, что она жалеет и любит мать, что даже дедушка смиряется перед ее силой.
II
После этой ночи я как будто умер на долгое время: это были годы небытия. Я не знаю, болела ли мать, повторялись ли у нее припадки, помню только, что она часто среди работы рядом с бабушкой, которая вся пылала отблесками пламени в печи, вдруг бессильно опускала руки, застывала на месте, глубоко задумывалась, потом медленно, потрясенная какой-то мыслью, садилась на лавку и, положив голову на ладони, опираясь локтями о колени, сидела так молча и долго. Бабушка с ухватом в руках останавливалась в дверях чулана и смотрела на нее скорбно, с певучими стонами.
Потом мама начинала что-то очень торопливо и невнятно бормотать и всхлипывать. Внезапно лицо ее блаженно улыбалось, и она тоскливо и больно начинала вопить. Это была сначала тихая жалоба, надрывающий душу напев без слов, похожий на колыбельную песню. Потом голос ее наплывал волнами - то наполнял всю комнату печалью, то затихал до шепота, и я видел, кате по щекам ее текли крупные слезы.
Мне казалось, что она плакала только глазами. Пела она всей душой, и песня рыдала, молила о помощи, мечтала о чем-то далеком, утраченном навсегда. У бабушки дрожали щеки, и она умоляюще стонала:
- Да будет тебе, невестка... Не надрывай душу-то... Господи! Беда-то какая!.. Горя-то сколько!.. Невестка, чай, ты не сирота какая!.. Муж ведь... родные ведь... Чай, и мать, сваха Наталья, рукой подать, за рекой...
Мать уже была в каком-то другом, незримом мире, и стоны бабушки, и .эти копотные стены - этот реальный мир сейчас не существовал для нее. Бабушка роняла ухват, подходила к матери и садилась рядом с нею. В тон матери.
она тоже начинала вопить, и из глаз ее текли слезы.
Как жила-то я у моей родимой матушки,
Уж не знала я у ней горя-заботушки...
Отдала меня моя матушка во чужу семью
Во чужу семью на горюшко, на злу судьбу...
Обе они сидели, склонившись к коленям, и качались в такт своим причитаньям - одна молодая, похожая на девушку, попавшую в неволю, другая - рыхлая, сутулая старуха, одетая в старинную китайку.
Вопили в деревне охотно, по всякому поводу и без повода - так, по настроению: у баб много было причин голосить и плакать. Вопили по покойникам, при проводах парней в солдаты, при выданье девки замуж, при встречах прибывших со стороны близких людей, при воспоминаниях о прошлом. Я очень хорошо видел, что они - мать и бабушка - плакали не так, как плакали мы, дети, и не так, как визжала, например, жена Сереги Каляганова, шабра, которую он бил смертным боем. Они пели протяжно, сладостно, забывая обо всем, и я никогда не слышал, чтобы они повторяли одни и те же слова: они импровизировали свои жалобы и больше к пропетым словам не возвращались. Мать пела свое, бабушка свое. Они начинали новый запев поочередно: слова одной не совпадали со словами другой. Запевает одна, другая вступает в напев, а потом обе в один голос поют, не слушая друг друга. Я садился рядом с ними и плакал, вцепившись в мать и тыкаясь в ее плечо.
Если они ненарушимо доводили до конца свое вопленье, песня их замирала на едва слышных всхлипываниях и стонах. Потом они плакали уже молча, вытирая слезы фартуками. Лица их после этого светлели и становились похожими на лица святых. Мне было приятно от их теплоты и скорби, и чувствовал я, что они в эти минуты любили друг друга.