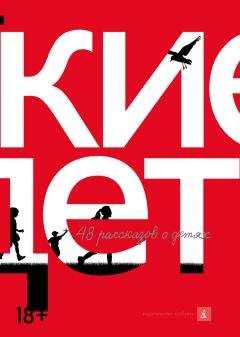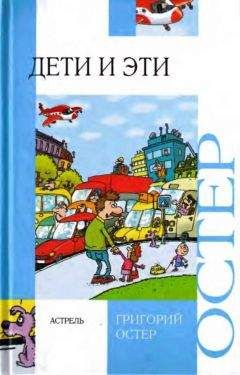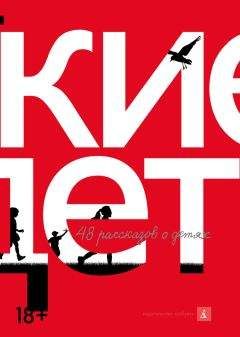Михаил Пришвин - Кащеева цепь
Мало-помалу, однако, Алпатов почему-то меньше вертится по камере и больше проводит время на столике у окна.
Анацевич хочет узнать, не поумнел ли уж отчего-нибудь этот юноша: бывает, в тюрьме человек вдруг и поумнеет.
Алпатов чуть не упал со столика и растерялся.
— Любуетесь? Алпатов ничего не сказал.
— Как вам живется?
— Благодарю, ничего.
— Не надо ли что-нибудь вам от прокурорского надзора?
— Я хотел бы знать, когда, хотя бы приблизительно, будет конец?
— Это зависит от вас: признайте свой почерк, и завтра вас выпустят. Экспертиза у нас научная, установлено точно: «Женщина и социализм» Бебеля ваш перевод, а также отдельные главы Меринга, Каутского, спор Энгельса с Дюрингом целиком ваш. Видите, как точно.
Алпатов заметил кончик маленького лакированного башмака товарища прокурора, на который спускались новенькие английские брюки. Когда Анацевич испытующе смотрел на Алпатова, он глядел на этот кончик, и через это ему представлялась квартира Анацевича, его письменный стол, пресс-папье с Эйфелевой башней. И все это как у всех делает его каким-то всесильным. Он идет определенной дорогой, а не по меридиану, будет непременно прокурором, директором департамента или послом во Франции, и даже в Англии среди лордов Анацевич будет нужным, необходимым человеком; он же, Алпатов, — экзотика, невольница восточного рынка.
Стыдно под нагим глазом, потупился, краснеет и не сводит глаза с кончика лакированного башмака с английскими брюками. Это почувствовал в себе Алпатов, схватился и с презрением сказал Анацевичу:
— Даже астрономия ошибается в своих вычислениях, а что же это за наука, экспертиза почерков? Я не писал.
— Очень, очень жаль. Значит, вам ничего не надо от прокурорского надзора? До свидания.
С порога тихо бросил:
— А может быть, вам хочется побеседовать по этому делу углубленно, — я к вашим услугам.
Алпатов опять потупился. И Анацевич опять подходит.
— У вас столько времени думать, неужели вы не поняли своей ошибки?
— Какой же?
— Не будет никакой мировой катастрофы, и все совершится обыкновенно, самое же ваше рабочее государство явится обыкновенным порядком. Ваша ошибка в том, что нельзя в государственных делах руководствоваться любовью к человеку.
— Я не любовью, — вспыхнул Алпатов, — я руководствуюсь экономическими законами: любовь, искусство — это надстройки.
— Я тоже считаю это неоспоримым в общественной жизни, но лично вы живете примером Христа и хотите пострадать за человечество. Это совсем не государственный путь.
Анацевич улыбнулся, подступая к Алпатову, и даже осмелился взять его за пуговицу.
— Вы хотите для спасения рабочих отдать свою молодую прекрасную жизнь и делаете это совершенно напрасно. Сейчас я проходил сюда, в тюрьму, грязной улицей, на дороге лежит без сознания какой-то человек, мертвый, больной или пьяный. Я звонюсь к дворнику и говорю: «Убери!» Он не слушается. Я беру его за шиворот и говорю: «Убери, негодяй, или я сейчас же тебя отправлю в участок». После того дворник извиняется, свистит извозчика и увозит человека в больницу. Так я делаю, а вы из-за любви к человеку несете его на своих плечах к себе в комнату, пьяница приходит в себя и делает вам же, спасителю, большие неприятности. Вот вы обдумайте это хорошенько, стоит ли идти на Голгофу, если для спасения одного гражданина достаточно взять другого за шиворот и потрясти. Вы это, молодой человек, хорошенько обдумайте, а я как-нибудь еще к вам заверну.
И вышел из камеры.
Алпатов заметался с новой силой по камере, с новым вопросом: как это множество людей, подобных Анацевичу, живут и успевают без всякого знания о мировой катастрофе, с одной только находчивостью в решительный момент поймать гражданина за шиворот? На мгновение он отнимает у себя уверенность в мировой катастрофе, которой должны подчиниться все одинаково и выйти из нее в едином для всех законе жизни.
Страшная картина открывается ему: лес, наполненный обезьянами, с быстрыми движениями, с безобразным хохотом, и среди них он, Алпатов, идет, почти презирающий себя, что не может быть обезьяною.
В этом будто-путешествии по одиночной камере внезапное вторжение другой, чужой жизни оставляет в душе такое же волнение, как на море при безветрии мертвая зыбь. Треплется бедная лодочка по мертвым волнам, не ведающим своего происхождения. Бессильно полощется парус.
Алпатов цепляется за правонарушение, он думает, будто потому он так взволнован, что товарищ прокурора, который должен быть заступником права перед жандармами, сам является худшим из всех жандармов и пытает утонченно свою жертву. Ему кажется, что на это можно бы кому-нибудь пожаловаться и все дело только в том, что он не знает кому. Он мечется в бессильных придумках, перебирает разные высшие учреждения, сам едва отличая сенат от синода. Наконец ему приходит в голову, что можно послать жалобу на высочайшее имя. И мысленно он стал сочинять жалобу. Ему приходилось, за отсутствием бумаги, писать слова в воздухе, удерживая буквы зрительной памятью. Но уже в самом начале большое И в словах «Высочайшее Имя» стало отделяться, расти выше, выше в небесную бесконечность. Сообразив, что И удаляется в высоту в подтверждение слова Высочайшее, Алпатов одумался и расхохотался; пробовал повторить опыт для потехи, но не захотело смеяться над собою и не поднялось. На несколько минут эта забава с высочайшим именем освободила Алпатова от плена каких-то мельчайших лилипутов, тыкающих его булавками, но скоро вспомнилась другая обида: начальник тюрьмы отказался передать ему присланную с воли книгу Шекспира «Кинг Джон» на английском языке, потому будто бы, что английского языка у них никто не понимает и книга может быть нелегальной. Алпатов сослался на Шекспира, но начальник сказал, что «Кекспира» у них никто не знает и «Кекспир», как всякий писатель, может создать нелегальную вещь. Жестикулируя, Алпатов стал возмущаться, что в образцовой тюрьме нет библиотеки, но начальник крикнул ему: «Руки по швам!» — и потребовал от него, чтобы во время поверки он всегда непременно держал руки по швам.
Кому же на это пожаловаться? Конечно, товарищу прокурора. Но как только мысль вернулась к этому заступнику права, бросились все лилипуты с новой силой колоть своими булавками.
Медленно ползет тюремное шерстяное, колючее время и, когда переползет сегодня, вдруг пропадает, убегая назад с огромной быстротой. Кажется, это вчера только был Анацевич, а уж с тех пор неделя прошла.
В сумерках за воротами раздался выстрел. Алпатов вскочил и успел рассмотреть до наступления темноты: у дерева на площадке вертелась подстреленная кем-то собака. Через минуту собака легла у самого дерева, сплюснулась и скрылась в наступающей тьме. А утром, когда Алпатов поднялся к окну взглянуть на убитую собаку, блеск молодого снега так ослепил его, что голова закружилась и он чуть-чуть не упал. За одну только ночь выпало столько снегу, что от соб,аки под деревом торчало одно только ухо, а след какого-то животного был так глубок, что цепочка его даже из окошка тюрьмы ясно виднелась и, голубея, уходила, теряясь, в перелесок.
Было румяное утро.
Не забылось это румяное утро над свежим снегом. Но когда оно было? Вчера? Нет, не вчера, а недели уже две тому назад: все это время пропало. Теперь уже осадило снег дождиком, и собака вся на виду, вокруг нее все истоптано кем-то, и на дубе воронье. А вот и это переменилось и ускочило далеко назад, все опять завалило, река перестала куриться и скрылась под снегом. Но когда река скрылась, дрова скрылись и небольшие кусты потонули в суметах, собака почему-то поднялась над снегом и лежала вся на виду. Как же это могло случиться?
Алпатов ходит из угла в угол и думает об этом странном явлении день, другой и третий. Ему иногда кажется, что на пути к Северному полюсу он так много передумал, такие большие сделал открытия. Но что же это значит, если вот уже третий день он застает себя на одной мысли: «Как поднялась убитая собака из-под глубокого снега?» И что, если все передуманное им в тюрьме тоже вертится около чего-нибудь одного и не движется с места, время летит, и от этого, кажется, мысли летят. Растут сильно волосы; что, если только и есть, что волосы растут и в этом весь смысл тюремного времени?
Последнее открытие было сделано над месяцем. Солнце всегда солнце, хотя бы и в пасмурный день, но месяц пропадает совершенно, неделю, две иногда он растет невидимо, незнаемо под тучами и вдруг показывается, весь сияющий, над огромной своей волчьей равниной. Раньше всегда думалось о месяце по календарю в виде чередом следующих фаз луны, а в действительности, оказывается, часто бывает, что месяц появляется вдруг и сверкает, — в этом и есть открытие заключенного.