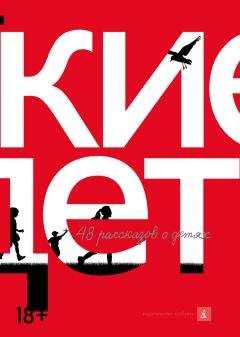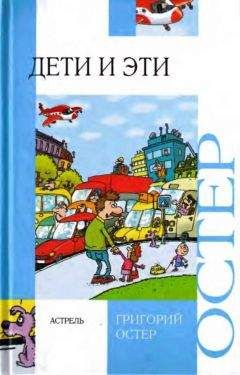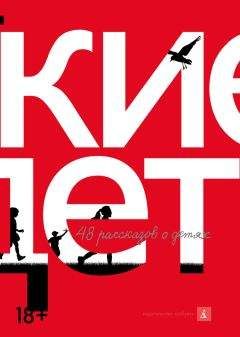Михаил Пришвин - Кащеева цепь
— Маркса, конечно, Энгельса, «Эрфуртскую программу», Бебеля, Меринга, Каутского, все это у нас есть, все я тебе дам.
— А еще нельзя ли, чтобы, читая, можно было бы что-нибудь делать, не в смысле Чернышевского «Что делать?» говорю, а просто делать, как ты уроки даешь и этим живешь, так и я желаю просто работать.
— Мы сейчас все переводим те книги, о которых я тебе говорил, с немецкого на русский. Хочешь переводить Бебеля «Женщина и социализм»? Ты не слыхал об этой книге? Тебе работа особенно будет интересна, потому что, я помню, ты мне тогда много говорил о своей Марье Моревне, ты был с колыбели романтиком, и тебе тут будет корректив действительности: женщина в прошлом, в настоящем и в будущем.
— В будущем! — воскликнул Алпатов. — Как же сказано о женщине в будущем?
— Это вытекает само собой из нашей программы, ты — читатель скорый и угадчивый, ты сразу поймешь...
— И знаешь, — перебил Алпатов, — надо еще что-то делать совсем практическое.
— Совсем практическое тоже есть. Мы сейчас обрабатываем третий элемент, ты, вероятно, слышал, что это такое: не выборные земские деятели, а служащие по найму, разночинцы, статистики, ветеринары, агрономы, учительницы. Мы их постепенно забираем от народников и через них влияем на председателя Александра Раменова. Ты его знаешь: образование гвардейское, а претензии Дон Кихота. Половину своего времени совершенно нормальный человек, и когда нормальный — кулак, а когда в хандре, то раскаивается и становится страшно искренним и готовым на всякую революцию в разговорах. Руки заложит назад по-английски, но пальцам не терпится, заберет пальцами полы сюртука в комочек и мнет, а зад мелькает открытый, и, знаешь, такой пропорциональный зад, такой приличный! Весь проникаешься убеждением, что не в этом у него дело, а там высоко, высоко, в больших горизонтальных усах и маленьких добрых глазах. Так он мелькает и повторяет: «Россия — загадочная страна!» А мы свое мотаем на его ус, и так он у нас почти что марксист, конечно, когда бывает в хандре. Сейчас он занят валютой, бормочет о биметаллизме. Мы ему подсунули социал-демократа Шиппеля. Еще есть у нас член управы из купцов, лесопромышленник, оголяет уезд до конца, а нам сочувствует, деньги дает и называет нас передовой авангард. Но работа с этими людьми требует точных знаний в земском деле, и ценим ее мы больше как средство забирать третий элемент от народников. Ты этим после займешься, если захочешь, а сейчас ты прочитай все и переводи Бебеля «Женщину».
— Давай же книгу, — сказал Алпатов.
— Не спеши, я сейчас опять бегу на урок, а ты пока сходи к нотариусу, там увидишь Голофеева, он тоже наш.
Несговоров уходит на урок. Алпатов, совершенно оглушенный новым, каким-то необычайно заманчивым и в то же время таким ясным миром, садится на лавочку подумать... Так удивительно укладываются в эти идеи его желания, мечты.
Но вот как же это он не спросил Ефима, когда тот обрадовался, что германские социал-демократы голосуют против расходов на флот и на армию. А если это необходимо для защиты государства, если к слабым немцам без войска и флота явятся их злейшие враги французы и уничтожат Германию совсем — и с Бебелем, и с Либкнехтом, и социал-демократией? И если перевести то же на Россию, если опять к нам придет какой-нибудь новый Наполеон и у нас не будет оружия?
Он взял газету, пересмотрел ее, нашел телеграмму из Берлина, и оказалось действительно так: немцы сами же и голосовали против самих себя... Как же так?
Однако самый факт, что он уже может находить в газете что-то свое, что там где-то у нотариуса сидит Голофеев, который тоже наш, наполнил его радостью.
— Так или иначе разрешаются все эти трудные вопросы, — сказал он сам себе, — но мне — единственный выход из тупика через организацию школы пролетарских вождей.
ПЛАМЕННЫЙ ПРОЗЕЛИТ
Афанасий Голофеев, письмоводитель нотариуса, пришел из конторы кожевенного завода — другой своей службы, и потом после нотариуса у него была третья служба, на железной дороге. У него очень болела голова, и оттого глаза были сердитые, хотя лицом он был совершенно похож на доброго учителя в известной картине Богданова-Бельского. Он был в черной косоворотке, опоясанной узким ремешком.
— Ты не узнаешь меня, Афанасий? — спросил Алпатов.
— Как же, узнаю, — сердито отвечал Голофеев. — Что тебе надо от меня? Я очень занят.
— У меня есть дело к нотариусу, но это пустяки, главное, меня прислал к тебе Несговоров, он мне сказал, что ты наш.
У Голофеева глаза стали совершенно такие же ясные и добрые, как на картине Богданова-Бельского.
Он молча показал пальцем на дверь нотариуса и шепотом прибавил:
— После, в передней.
Когда Миша, переговорив с нотариусом, вышел через другую дверь в переднюю, Голофеев сидел на подоконнике и покуривал в ожидании.
— Ты уже связан с нами? — спросил он.
— Я взял работу: буду переводить Бебеля «Женщина и социализм».
— Да, это очень нужно таким, как я: очень хочу прочесть и не знаю немецкого. Тебе эту книгу Данилыч дал?
Алпатов схватил, что слово Данилыч, может быть, лишнее было у Голофеева и сказалось потому, что у него болела голова. Алпатов сделал вид, что не расслышал. Голофеев спохватился и спросил:
— Бебеля ты где достал?
— Какой ты чудак, Афанасий, — сказал Алпатов, — как будто не знаешь конспиративной азбуки — ведь это совсем неважно, где достал я Бебеля.
— Вижу, ты не новичок. Это правда. У меня ужасно голова болит. А где ты по-немецки научился?
— Сам научился, читал книги со словарем и привык..
— И по-французски можешь?
— Тоже научился по Туссену, самоучителю. С тех пор как меня выгнали из гимназии, я все чему-нибудь учусь, сам, как будто догоняю и не могу догнать, и все мне кажется, что я невежда.
— Вот и я тоже такой, — с живостью сказал Голофеев. — Только мне еще хуже, у меня три службы, я ночью учусь, и оттого, должно быть, постоянно голова болит.
Нотариус позвал письмоводителя. Голофеев простился... Алпатову стало, будто он себе еще брата нашел.
«И сколько их еще будет здесь, и в другой город приеду — там, и за границей, наверно, то же самое... А кто это Дани-лыч?»
Алпатов шел по улице, на которой не было никаких памятников пережитого людьми, и настоящее, такое сонное, ничем не намекало на будущее, и потому он витал, не обращая никакого внимания на жизнь возле себя. Но какие-то глаза нездешнего мира промелькнули, он их заметил и вслед за тем оглянулся... Глаза смотрели на него большие, вдумчивые на больном зеленом лице из-под козырька зеленой фуражки студента Петровской академии.
Алпатов уже не удивлялся встречам, ведь это было в городе, где он когда-то учился и где выросли его товарищи: им некуда деться, все тут. Он сразу узнал Жукова.
— Ты нездоров? — спросил он.
— У меня чахотка, — ответил Жуков, — я скоро умру.
— Тебе это кажется только.
— Нет, это верно. Я спешу кое-что сделать. Музей устраиваю. Зайдем посмотреть.
Они поднялись по лестнице и вошли в большую комнату.
Одна девушка с круглым лицом, румяная, как помидор, сидела за микроскопом. Другие разбирали гербарий, третьи насаживали жуков и бабочек на булавки. Помидорка была самая молоденькая, другие чем старше, тем суше, как будто жили и сохли от жизни.
— Это все учительницы, — сказал Жуков, — мои ученицы. Я хочу разбудить в них интерес к родине. Наш край — совершенно неизвестная страна. Новая Гвинея больше исследована, чем наш уезд. Вот мальчиком ты хотел убежать в Азию открывать забытые страны, тебе бы надо было всего несколько верст проехать на Галичью Горку, и если бы у тебя были знания, ты мог бы открыть на ней альпийскую растительность. Давай посмотрим в микроскоп.
Они подошли к румяной девушке. И она отрекомендовалась:
— Салопова.
Алпатов смотрел в микроскоп, потом гербарий, жуков, уродов в спирту, но в музее все было сухое, учительницы многие тоже уже совершенно засохли и сами годились в музей.
— Все это я натащил сюда всего за год моей ссылки: я очень спешу, сказал Жуков.
— Ты выслан вместе с Несговоровым? — спросил Алпатов.
— Пришлось вместе, но мы по разным делам, он — марксист.
Миша догадался: «Значит, это народники».
— А ты читал Бельтова? — спросил Алпатов.
— Злая книга, — ответил Жуков, — и ужасна своими заблуждениями в оценке личного. Творческая личность стоит не только в основе истории, но и у животных, и у растений, нет ни одного листа на дереве, чтобы складывался с другим. Надо быть только очень внимательным, чтобы разглядеть это творчество. В школе нас не учили этому родственному вниманию, и вот отчего являются такие дале-кие планы: открывать какую-то забытую страну. Она тут, возле нас, но, чтобы видеть ее, надо уметь везде и всюду выделять творческую личность. А Бельтов эту личность стирает, как пыльцу с бабочкина крыла, и устанавливает какой-то безличный, бескрылый закон.