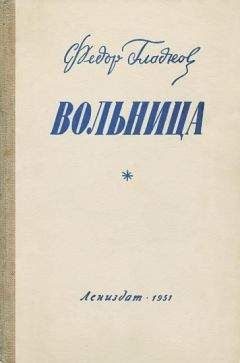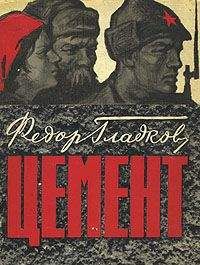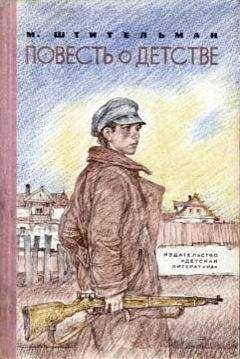Федор Гладков - Повесть о детстве
Сильный дуростью слаб, а слабый ловкостью умен. Вставай, Вася! У меня к тебе вражды нет.
Он хотел поднять его, но отец прохрипел:
- Уйди!
Толпа заволновалась, заговорила, зашумела и стала расходиться. Володимирыч с Егорушкой пошли вместе с сыновьями Паруши домой. Отец вскочил как встрепанный, кто-то надвинул ему на голову шапку, и он, не оглядываясь, быстро скрылся за избой. Сыгней и Тит о чем-то тихо и возбужденно переговаривались. В толпе кто-то свистнул вслед отцу, кто-то визгливо крикнул:
- Вася, тут еще парнишки есть, вернись, подерись с ними. Может, со своим Федяшкой выйдешь на поодиначки?
Я побежал вслед за отцом, но он куда-то исчез.
В эту ночь он явился поздно, пьяный, и сразу же свалился на кровать.
XVIII
В избе стало тягостно, мрачно, точно случилось что-то нехорошее, о чем нужно было молчать. Мать ходила заплаканная.
Катя замолчала с того дня, когда дед огорошил ее своим грозным решением выдать ее замуж. Бабушка возилась в чулане, стонала и невнятно бормотала с чугунами и горшками. Я убегал к бабушке Наталье и проводил у ней весь день до вечера, а в обеденное время катался на салазках с Петькой и раза два ходил с ним в кузницу, где было грязно, дымно и совсем неинтересно. Только за мехами стоял я с удовольствием и был очень доволен, когда научился давать непрерывный поток воздуха в горн. Бородатый и черный, как бес, Потап подбодрял меня:
- Нажми, милок!.. Дуй изо всей силы: сварка любит веселое горко... Эх, будет у тебя топорик - маленький, да удаленький... Петюшка, бери клещи, из горна тащи да накладывай!..
Ослепительные звезды летели брызгами в разные стороны из-под молотка Потапа - и на него самого и на Петьку, который держал, как настоящий кузнец, длинными клещами добела накаленную полосу железа. И было удивительно, почему Петька и Потап не загорались от этих ослепительных звезд, которые с шипением и треском обсыпали их к мгновенно взрывались на их кожаных фартуках и закопченных шубейках.
Иногда к бабушке прибегала мать и хлопотала около печки, кипятила воду, стирала холщовые ее рубахи и какието заскорузлые тряпки.
В эти дни я не раз встречал на улице Володимирыча с Егорушкой. Они не расставались никогда. Егорушка не водился с нашими парнями, не ходил на посиделки, не бражничал. Все знали у нас в семье, что отец ненавидит Володимирыча, и стоило кому-нибудь из домашних вспомнить о нем - он бледнел. Не раз за обедом дед, благодушно усмехаясь в бороду, ворчал:
- У нас, Анна, дети-то умом не вышли. Учил, учил их Володимирыч, а все невпрок. Большак-то все хочет показать, что он умнее стариков.
Отец страдал от унижения, бороденка его вздрагивала, и он притворно улыбался, делая вид, что ему забавно слушать язвительные шутки деда. Он прятал глаза, тер их ладонями и спрашивал у деда, как и что готовить к отъезду в извоз. Об извозе он говорил с почтительной Настойчивостью каждый день. А дед язвил:
- С твоим умом без порток останешься. Не поехать ли мне с ним, Анна?
Бабушка Простодушно негодовала:
- Да будет тебе отец, шутоломить-то! Чай, Васяньха-то не хуже других. Не первый год ездит и ни разу без прибытку не приезжал. А тебя, бывало, и обсчитают, и долгами опутают.
Бабушка любила детей, как клуша цыплят, и стояла за них горой.
- Поговори у меня! - сердился дед. - Не бабьим умом дела эти делаются. - И сурово обращался к отцу: - Собирайся! На санях выедешь, а телеги - на сани.
В эти дни произошли события, которые до дна перевернули всю деревню. Жили люди в своих избах тихо, устойчиво, дремуче, как медведи в берлогах. Похороны и родины не нарушали скучной однообразной жизни. Лежание на печи, курная баня, избяной угар, мертвая тишина деревни, затерянной в снегах, все это было вековой обыденностью, которую, казалось, не изменит никакая сила. Вырваться из этого житья было невозможно: уйти на заработок мог только тот счастливец, который расплатился с недоимками, но и его в любое время могли пригнать по этапу. Власть старика отца, сила круговой поруки держала мужиков в деревне, как скот, в загоне. Каждый чувствовал себя безнадежно прикованным к своей избе, к своей голодной полосе, к своей волости. Какие же могли произойти события в этой скудной и беспросветной жизни, которая охранялась и стариками, и миром, и древлим благочестием, и полицией, и старшиной, и земским начальником!..
События разразились внезапно и ошеломительно.
Однажды поздним утром, когда снег был уже оранжевый от мутно-красного солнца и синий в оттенях, а над избами столбами поднимался лиловый дым, в деревню ворвались пять троек с колокольчиками. Из дворов выбегали мужики, бабы, ребятишки с испуганными лицами. Такие колокольцы были только у начальства, которое редко заглядывало в нашу деревню. Тройки остановились у съезжей избы старосты Пантелея. Эта пятистенная изба стояла по соседству с избой Ваньки Юлёнкова. Староста Пантелей, зажиточный мужик, с черной бородой во всю грудь, с короткими кривыми ногами, ходил, качаясь из стороны в сторону, нахлобучив шапку или картуз на самый нос, и говорил фистулой, но важно, как подобает сельскому голове. Он недавно овдовел и нился на молодой девке, рябой, дураковатой и бессловеснопослушной, которая вошла в его избу, полную детей, маленьких и больших.
- Только дура - хорошая мачеха, - рассуждал Пантелей, упрямо глядя себе в ноги. - А умная о себе думает, не тужит и не служит: убыточная.
Пантелей ходил в старостах уже несколько лет, и к нему так привыкли, что не могли себе представить другого старосту. Он арендовал землю у Измайлова, торговал свечами, воском, кожами, имел свою дранку и воскобойню, а свечи делали ему бобылки. Он был исполнительный староста, строгий и взыскательный, но мужики уважали его за то, что он часто защищал их от крутых мер по взысканию недоимок. Во время сбора податей сам платил за несостоятельных недоимщиков, но зато выколачивал из них долги отработками и батрачеством.
Со всех сторон потянулись к съезжей старики с палками в руках, как полагалось ходить на сход главам семей. Тройки стояли в обширном крытом дворе Пантелея и позванивали колокольчиками и бубенчиками. Мужики столпились у избы, на улице и, опираясь на палки, уже галдели на весь порядок. Пришла и Паруша с подогом в руке. Мужики все еще тянулись к съезжей, подходили и сторонские - группами, в одиночку, и с луки, и от дранки, и со стороны Крашенинников. Нам, малолеткам, было не понятно и не интересно, о чем галдели и спорили мужики: мы с нетерпением ждали, когда выйдут к сходу приезжие таинственные люди, и чутко прислушивались к перезвонам дуговых колокольцев.
И вправо и влево на длинном порядке у изб стояли бабы.
Всезнайка и проныра Кузярь уже успел пролезть в самую гущу толпы и смотрел на нас с Наумкой и Семой с дьявольским видом человека, которому уже известен загадочный приезд начальства.
- А я знаю, хы... я знаю, зачем они нагрянули...
- Знаешь, так скажи.
- Кладите мне по трешнику - скажу. Сроду не узнаете.
- И без тебя узнаем. Ловкий какой на трешники! Сорока тебе на хвосте принесет.
- Кладите трешники, а то покаетесь. Я уж во двор слетал и у кучеров все выспросил. Ох, и дела будут!
- Знают твои кучера...
- Дадите по семишнику - в избу взойду и все как на ладони увижу. Пойдем с тобой, Федюк, сам увидишь. Только, чур, семишники - за вами.
Он дернул меня за рукав, и мы побежали вокруг толпы к открытым воротам. Это событие опять связало нас дружбой.
У самых ворот Кузярь вдруг остановился и озорно взглянул на меня. Он торопливо стащил варежку с руки и вынул из кармана засаленной шубенки маленького котенка - серенького, пушистого, который судорожно шевелил лапками и смешно плакал розовым ротиком.
- Вот видишь? Этого зверя я кореннику на репицу положу. Знаешь, что будет? Как рванет, как забесится - все тройки с ума сойдут. Вереи вынесут.
- А зачем?
- Эх, дурак! Да ведь потеха будет. Все село - на дыбы.
Мы не успели подойти к воротам: навстречу нам тесной кучей вышло начальство. Впереди, выпятив грудь, в черной шубе с серебряными погонами и в плоской шапке с кокардой, шел высокий человек с рыжими усами, с выпученными глазами. Рядом с ним степенно переваливался с боку на бок Пантелей в суконной бекеше, а за ними - полицейские в таких же плоских шапках с кокардами, усатые, по-солдатски свирепые, с оранжевыми шнурами, надетыми на шею, а еще дальше - какие-то сторонние мужики.
Кузярь шепнул мне торопливо:
- Ну, идем... никто не увидит...
Но я остановился, пораженный и испуганный. Эти люди показались мне зловещими и до помрачения страшными.
Мужики сняли шапки и сразу застыли в молчании. Я побежал обратно туда, на снежную горку, на крышу "выхода", где толпились парнишки. Там уже стояли и взрослые парни, а среди них Сыгней и Тит.
Пантелей помахал шапкой и по-бабьи крикнул:
- Старики, их благородие прибыли... насчет недоимок и земельных платежей.