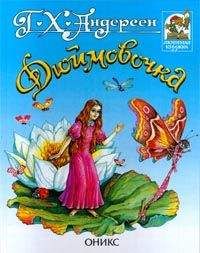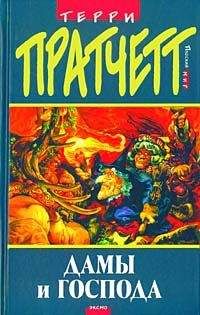Анатолий Мошковский - Трава и солнце
Рядом, в этом же посаде, скоро начали селиться украинцы, бежавшие сюда из Запорожской Сечи и других мест; они были новой веры, и липоване враждовали с ними, сторонились, плевались, глядя на купола их "хохлацкой" церкви. Неслыханным было делом, чтоб липован женился на "хохлушке".
Все у них было порознь: и лабазы, и говор, и кладбища, и жили они в разных краях посада - Дунаец лег меж ними прочной границей: в сторону моря - липоване, в сторону степи - украинцы.
Долго жили старообрядцы уединенно, блюдя строгость веры, молитвами укрепляя свой дух, готовя себя к жизни в ином, ангельском мире. И только в сороковом году, ненадолго, когда Советский Союз вернул себе Бессарабию, увидели старообрядцы людей со звездами и красным флагом - людей, говоривших, что бога нет, что надо строить хорошую жизнь здесь, на земле, а не готовить себя к жизни, придуманной попами...
Потом война, разруха, карточки... В те времена, когда родилась Фима, над городком возносили свои купола три церкви - две Никольские и одна Рождественская, и видны они были далеко-далеко. Подъезжаешь ли к Шаранову на лодке с моря, на "Ракете" ли со стороны Измаила, в рейсовом ли автобусе с материка, из степи, еще не видно шарановских крыш, а уж над зелеными береговыми лозами и тополями, над холмами да лугами высокомерно и отрешенно посверкивают серебром церковные купола.
Давно притихла вражда меж липованами и украинцами, все чаще игрались между ними свадьбы. Дунаец уже разделял город скорей географически, но гуще, чем в других городах и деревнях страны, валил здесь народ в церкви, и у многих под рубахами на тонких тесемках висели нательные крестики. Старообрядцы ходили в свои церкви, верующие украинцы - в свою, Никольскую, что против базара, с пузатыми, как самовар, приплющенными и сытыми куполами...
Отец вернулся из церкви под вечер, снял старую фетровую шляпу, потеребил темную бородку; как и все старообрядцы, он стал отпускать ее, когда годы подвалили под пятый десяток. (Почему-то люди старой веры считали своим долгом носить в пожилом возрасте бороды.)
- Слава тебе господи, - сказал он, - отменно поговорили с батюшкой, послезавтра еду в Широкое, а сейчас вентеря по ерикам проверю...
Он снял парадный шевиотовый костюм, облекся в замызганную рыбацкую робу, в которой рыбалил в звене вентерщиков возле дунайского устья, и на маленькой смоленой плоскодонке-однопырке пошел с Локтей проверять вентеря - сетки на деревянных обручах, распространенные у дунайских рыбаков.
Крупная рыба в ерики заходила редко, и все же килограмма два-три на юшку иногда попадалось; отец вытряхивал рыбу в лодку и ехал от одного вентеря к другому. Когда-то он брал с собой и Фиму. Но это в те времена, когда с ними жил старший брат Артамон, ныне капитан колхозного сейнера, ежегодно уходившего в экспедиции на Черное море. Потом брат подрос, женился и, вопреки желанию отца, отделился, не стал жить с ними. Ушел, не обвенчавшись в церкви, с "хохлушкой" Ксаной Поэтому-то отец не очень задерживался у городской Доски почета в центральном сквере города, где у памятника Ленину среди других фотографий красуется и фотография его сына.
С тех-то пор и дружба с Фимой пошла у отца на убыль, и он не звал больше дочку с собой на однопырку.
Фима любила воду, плеск волн в борта, запах тины и сырости, но не напрашивалась к отцу в экипаж. Зато мать с бабкой не забывали ее.
- С утра будем обляпывать, - предупредила после ужина мать, - чтоб дома была.
Фима нырнула под одеяло, легла на бочок, скорчилась и долго не могла согреться.
За окном, из сырой темноты заросших травой ериков и болотец с надсадом, с надрывом, металлическими голосами стонали лягушки. От этого стона нельзя заснуть. Он проникает сквозь камышовые стены, сквозь стекла и натянутое на голову одеяло. В этом стоне есть что-то резкое и злое, что-то фантастическое и застарело-нетерпимое, как у молящихся староверок.
А может, не лягушки виноваты в том, что не идет к ней сон, может, всему виной ее неладная, ее расщепленная жизнь? А может, все дело в Аверьке, храбром и равнодушном, с твердыми мускулами на втянутом животе, в Аверьке, который завтра после двенадцати обещал Алке пойти купаться на Дунаец?
Вот было бы, если б не пришел. Чего не пообещаешь в том положении, в каком он был...
До полудня Фима с Локтей таскали в носилках ил. Он был тяжелый, липкий, зеленовато-черный. Перемешанный с соломой, плотно вмазанный в камышовые стены домов, он надежно, не хуже камня, держал тепло в зимние морозы. Вчерашний ил, прикрытый на ночь от высыхания травой и рогожками из болотного чакана, часам к десяти кончился; пришлось замешивать новый. Ил привозил все в той же однопырке отец, скидывал лопатой на узкую греблю возле плетня. Свалив ил у строящегося дома, ребята тащились назад.
- Н-но! - покрикивала Фима и, топая босыми ногами, толкала носилки.
Локтя взвивался на дыбы, тоненько, как жеребенок, ржал, осаждал назад и так стремительно припускал вперед, что едва не вырывал из Фиминых рук носилки. На всем скаку подлетали к матери и Груне - так звали старшую сестру.
- Тише вы, окаянные, в ерик угодите!
Женщины босыми ногами месили ил. С сытым чавканьем, хлюпаньем и сопеньем шевелился он под их ногами; стрелял и чмокал, когда ноги выдирались из месива; шипел, раздаваясь, как тесто, неохотно отступал, пропуская внутрь черные, измазанные ноги.
На один дом нужно с полсотни таких лодок ила, и отдыхать было некогда. Когда ил был замешан, принялись обляпывать стены. Здесь уж некому было угнаться за Груней! Она и в колхозе была мазальщицей - работала в бригаде подсобного хозяйства и мазала дома на усадьбе их колхоза, одного из самых больших колхозов Причерноморья.
Груня сидела на лесах в расстегнутой от жары кофточке, в грязных мужских штанах, туго обтягивающих худые ноги, и быстро вмазывала, втирала ил в камышовую стену, в щели и пустоты там, где камыш соединяется с жердями каркаса.
Груня была одинока. Ее плоское, рано увядшее лицо - ей было за тридцать - безжалостно изрыла когда-то оспа: метины были и на носу, и на лбу, и на подбородке. На людях она держалась замкнуто, была исполнительна, тиха - и муху не обидит. Но когда Груня молилась, Фима боялась ее. Потому, казалось, всегда молчала сестра и держалась в сторонке, чтоб здесь вот, под скопищем древних икон, вдруг излиться перед богом, не таясь открыться перед ним в потоке слов, славя того, кого она считала всемогущим и мудрым, от которого все доброе и святое на этой грешной, переполненной пороками и страданиями земле.
Прямо холод пробегал меж лопаток у Фимы, когда слышала она эти горячие, эти частые, с придыханиями и всхлипываниями заклинания и просьбы. Мать с отцом молились спокойней, уверенней, а в Груниных словах была униженность и страх, что бог ей не поверит и накажет за безверие подруг, брата и сестры и не даст спасения, не примет в царство небесное.
Как она не понимает, что все это бесполезно? А мать с отцом? До чего же все это дико и странно. Все, кажется, ясно как день: есть только одна жизнь, и она здесь - солнечная, терпкая и соленая, как пот, - только здесь, и больше нигде, разве только на других планетах. А им этого не понять.
Молятся доскам с черствыми, изможденными постом и страданиями ликами, читают пропахшие ладаном, замусоленные церковные книги, напечатанные древнеславянскими буквами с замысловатыми виньетками; как эпилептики, падают в церкви на колени и целуют липкий от сотен губ медный крест и оклад чудотворной иконы...
В тот день, когда Фима явилась домой в красном галстуке, Груня испуганно посмотрела на нее и не сказала ни слова. Но отдалилась от нее, и если разговаривала, так только по делу. Фима была не из робких, но ей было не по себе, когда ее будил по утрам этот страшный, исступленный шепот Груни перед иконами: два ее черных пальца взлетали в мольбе на фоне солнечного окна...
К часу все выбились из сил. Ребята уже не дурачились, не взвивались на дыбы. Фима работала босиком, в трусах и майке. На Локте были одни трусы, по его телу бежал пот, сбегал по тесемке креста и капал вниз. Крестик был дешевенький, свинцовый, с ушком для нитки и вторым крестиком, оттиснутым на нем, и был однажды надет на Локтю попом и стоил по новым деньгам в церкви всего десять копеек.
Фима надеялась, что после обеда мать освободит ее, да не тут-то было.
- Ну, с богом, - сказала мать, - надо торопиться: когда еще отца отпустят...
И Фима с Локтей снова впряглись в носилки.
А дел у нее сегодня была уйма. Во-первых, надо хоть на часок вырваться к Матрене, семидесятилетней бабке, которой она помогала как тимуровка. Во-вторых, она здорово устала, ей наскучила одуряюще однообразная работа, молчание матери и шлепки густой кашицы по камышу. Ах, как тянула быстрая, прохладная вода Дунайца - канала-протоки, который брал начало в Дунае и впадал в море! Там, наверно, уже давно кувыркается Аверька с мальчишками и девчонками...