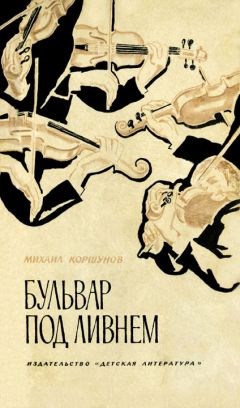Михаил Коршунов - Бульвар под ливнем (Музыканты)
Яким Опанасович настоящий Ладин приятель. Даже Ганка сердилась, когда Ладя и Яким Опанасович удалялись на прогулку. Ганка считала, что они просто болтаются из конца в конец села, а Ладе очень нравились эти прогулки. Ладя брал с собой скрипку, и они ходили с Якимом Опанасовичем по селу. Появлялись в хате, куда их приглашали, и Ладя играл так, как этого хотелось людям, которые за его музыкой видели свою жизнь, может быть уже прожитую, и Ладя это понимал. Он играл, чтобы хотя бы на миг что-то возвратить им из молодости, из их прошлого. Ганка никогда не играла, и не потому, что не хотела выступать, просто у нее были другие задачи, и она их выполняла.
У Ладьки не было никаких задач. Он с удовольствием просто играл для стариков в их старых хатах, крытых соломой или камышом. Он всегда мог легко определяться в любой ситуации и обнаруживать основное для себя и для других, удобное и радостное. И еще он умел не нагружать себя однообразным, а значит, и скучным трудом. Он ничего не преодолевал и лично никуда не стремился.
Уже совсем поздно вечером Ладя и Яким Опанасович крались в темноте до дому, до хаты.
Яким Опанасович приседал, трогал ладонью землю и серьезно говорил:
- Вглубь просохнет, будэмо копать колодец.
Из темноты появлялась Ганка, которая уже давно разыскивала их по селу, и начинала кричать на Ладю и Якима Опанасовича, как дежурные на ферме.
Яким Опанасович быстренько исчезал в темноте, и Ладька оставался один на один с сердитой Ганкой - казак и казачка.
Ладя пытался успокоить Ганку.
- Чего ты кричишь? - говорил он ей. - Я рекламирую скрипку. Тебе учеников приведут сотни.
Письма от Санди теперь приносил почтальон. На месте адреса неизменно было написано: "Село Бобринцы, заезжему из Москвы скрипачу". А на месте обратного адреса также неизменно было написано: "Проездом".
В конвертах, кроме самых писем, оказывались или новая фотография, или цветок, или автобусный билет с каким-нибудь странным названием "Спас-Заулок", "Голокозевка", "поселок Чертеж", а то прислала билеты речного пароходства с названием рек "Княгиня" и "Горожанка".
Ладя представлял себе, как Санди ходит повсюду с Арчибальдом и как ее повсюду узнают зрители, которые уже побывали в цирке. Санди идет, и в глазах у нее так и прыгают разные "коверные" мысли, что бы еще такое придумать сегодня поинтереснее, чтобы забавно прошел день, какой-нибудь трюк-сюжет. Санди любила рисовать, поэтому часто носила с собой краски, кисти и блокноты. Рисовала она всюду, но тоже как-то неожиданно, казалось бы, в самых неподходящих местах. Но потом она умела составлять из рисунков тему. А потом еще оказывалось, что рисунки она делала о Ромео и Джульетте, Как она их представляла себе в наши дни, где и какие должны происходить события. И весь какой-нибудь день она сама играла Джульетту, становилась то веселой, то задумчивой и очень влюбленной. Если в этот вечер выступала на манеже - выступала Джульетта, а зрители просто смеялись, потому что видели просто клоуна.
Ганка письмами Санди не интересуется, уверена, что там всякая чепуха, вовсе не мобилизующая на работу, а Ганка готовит Ладю к консерватории, заставляет, во всяком случае, готовиться. Написала письмо Кире Викторовне и получила от нее подробную инструкцию, что надо делать. Получила ноты с проверенной аппликатурой. Кира Викторовна требовала, чтобы Ладя работал над этюдами. И без лишней декламации. Больше оттенков простых и ясных. Следить за струной соль, она иногда звучит у Лади слишком подчеркнуто.
Ганка часто аккомпанировала Ладе на своей скрипке, чтобы ему было интересно заниматься, чтобы он не стремился поскорее куда-нибудь отправиться с Якимом Опанасовичем и его приятелями. Важно было Ладю оберегать от него самого. Так считала Ганка.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Андрей опять пришел на испытательную станцию. Пропуск был заказан. В проходной с ним поздоровались, как со своим человеком.
На станции никого не было. Машина стояла подкрашенная и, кажется, совсем готовая. Не было ограждений, все кабели отключены.
На станции работал только один большой станок - на нем вытачивался вал, наверное, такой же, который был и в этой готовой машине. Цифра 30 обозначала габариты. Андрею объяснили еще в первый раз. Синхронная динамо-машина тридцатых габаритов.
Андрей пошел туда, где работал станок.
- Своих ищешь? - спросил у Андрея токарь, который работал у станка.
- Да. Со станции. Где они?
- Кончили испытания. Составляют отчет у главного инженера.
- Толкнули машину?
- Толкнули и уже сожгли.
- Как сожгли?
- Экспериментальную машину надо сжечь.
- Покрасить, все сделать и сжечь?
- Конечно. Проектанты пишут - отстроить и выяснить предельную выносливость.
Андрей потрогал новый вал, которой медленно вращался на станке. Хотелось оставить свою ладонь, так просто, пока не пройдет резец и не уничтожит след.
Он увидел Риту. Она шла к нему сама.
- Я тебя ждала, - сказала Рита. - Позвонили из проходной, что прошел. Иванчику я запретила заказывать тебе пропуска.
- У меня кончились на сегодня занятия.
- Ты врешь. Опять пропустил фортепьяно.
- Так вы ее сожгли? - Андрею хотелось заступиться за машину.
- Она выдержала перегрузку минус три.
- Дым, пламя. Много дыма. Восторг.
Рита и Андрей шли по станции к выходу.
- Я просила не шутить на эту тему.
- Я забыл. Но она была такой рыжей, застенчивой. - Андрей продолжал злить Риту. - Верила людям.
- А они ее сожгли спичками, - сказала Рита.
Андрей подошел к стеклянным дверям, фотоэлемент распахнул двери.
Молча и медленно пересекли двор. Рита шла твердой походкой, концы халата резко отскакивали от колен. Андрею хотелось сказать Рите что-нибудь обидное, чтобы защитить себя от любых ее слов, обидных для него.
Но Рита молчала, молчал и Андрей.
Так молча пересекли двор. Вошли в проходную.
- Я сейчас вернусь, - сказала Рита вахтерам.
Мужчина в смешной белой панаме, в гетрах звонил по внутреннему телефону и требовал главного инженера.
- Здравствуйте, Викентий Гаврилович, - сказала Рита мужчине и повернулась к Андрею. - Наш профессор по электродинамике.
- Жуков и бабочек не собирает?
- Кажется, нет, - серьезно ответила Рита. Она сделала вид, что не замечает злости Андрея.
Они вышли из дверей на площадь.
- Пока! - бросил Андрей и повернулся к ней спиной.
Когда они шли еще через двор, он решил, что поступит именно так.
- Погоди, - сказала Рита и вдруг задержала его за плечи. - Никогда не делай глупостей. - Она улыбнулась и уже одними губами добавила: - Я тебя люблю.
Андрей стоял у входа на завод. Он смотрел на двери, на орден Трудового Красного Знамени, на стекло и бетон. Он так простоял долго, потому что за это время профессор по электродинамике успел выйти с завода, договорившись, очевидно, обо всем, что ему нужно было, с главным инженером, найти такси и уехать. Андрей стоял и все никак не мог понять, что он должен сейчас сделать, чтобы осталось у него в памяти, как останутся у него в памяти вахтеры, профессор в панаме и в гетрах и он сам - на площади перед входом на этот завод. Нет. Он просто должен сейчас уйти, чтобы сохранить эти слова. Унести их с собой тихо, чтобы где-нибудь, и опять в тишине, рассмотреть их, каждое слово отдельно. Два местоимения и глагол...
Оля Гончарова стояла перед комендантом Татьяной Ивановной.
Татьяна Ивановна раскладывала, как всегда, пасьянс, на этот раз "Эфиопию"; везде на первом месте должны быть карты темных мастей. Около стола Татьяны Ивановны - контрабас и виолончель. Ученики оставили инструменты с вечера, как в камере хранения. На столе лежало знакомое увеличительное стекло. Бетховенист-текстолог Гусев уже применяет для изучения фотокопий с тетрадей Бетховена светотехнику. Он выступил в настоящем печатном журнале со своей первой статьей, в которой пытался объяснить, как Бетховен отбирал и обрабатывал музыкальную тему, и что линии различной длины в его черновых записях действительно определяли направление движения музыки.
Карты у Татьяны Ивановны новые, но все равно она рядом держит увеличительное стекло. По привычке.
- Татьяна Ивановна, а нельзя быть молодой и уже одинокой? - спросила Оля.
Татьяна Ивановна взглянула на Чибиса.
- Нельзя.
- Но должно одиночество когда-то начаться?
- Музыкант никогда не может быть одиноким. Возьми ключ и иди наверх.
- Я не могу сегодня идти наверх. Не могу! Тетя Таня!.. - И Оля вдруг повернулась и побежала к дверям.
Выскочила на улицу и пошла, худенькая, напряженная, размахивала тонкими угловатыми руками. Она почти бежала по улице - от себя, от органа, от музыки. И от своей любви.
...Можно лежать в траве лицом где-то за городом на берегу реки, слышать, как приходят и уходят поезда, слышать, как начинается летний день, как где-то высоко над головой поют птицы и пролетают самолеты, слышать, но не хотеть ничего этого слышать? Никаких звуков, кроме ударов собственного сердца. Только это, и ничего другого. Можно так?