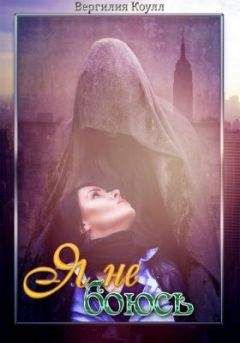Радий Погодин - Я догоню вас на небесах
Паша встал, они чокнулись - Паша свекольным кофе - и выпили стоя.
В этот момент, как в театре, отворилась дверь - вошел патруль. Старший лейтенант и два автоматчика. Офицер подошел к Паше, спросил увольнительную. Паша подал.
- Вам увольнительную дали не для того, чтобы вы сидели в пивной.
- Мы кофе пьем, - ответил Паша.
Старший лейтенант посмотрел на испуганную Эльзе равнодушным усталым взглядом, даже не посмотрел, а как бы размазал ее.
- Доложите своему командиру, что я наложил на вас трое суток ареста.
- Слушаюсь, - сказал Паша.
Однорукий инвалид придвинулся к офицеру боком, как птица.
- Нехорошо, - сказал он. - Война нет. Жизнь! Цветы...
Старший лейтенант похлопал инвалида по плечу.
- Все правильно, - сказал он по-немецки. - Мы еще просто не знаем, как нужно вести себя в такой ситуации.
"Ну чего тут знать? - подумал Паша. - Ну чего тут знать?" - Ему стало весело.
- Товарищ старший лейтенант, разрешите допить кофе и проводить девушку до дому?
Старший лейтенант задумался. Автоматчики смотрели на него с нескрываемым интересом.
- Разрешаю, - наконец сказал он.
Паша щелкнул каблуками, чего сам от себя никак не ждал, сел и принялся небольшими глотками интеллигентно пить кофе, глядя на Эльзе и улыбаясь.
Про интеллигентность я с его слов пишу, хотя Паша это мог, была у него какая-то сдержанность в движениях и в выражении чувств.
В глазах у старшего лейтенанта и автоматчиков появилась тоска. Когда они выходили, лица их были суровы и слепы.
Это все, что Паша рассказал нам о девушке Эльзе. Больше он не рассказал ничего. Но начал он пропадать.
Тут и случилась наша охота.
Мертвый Егор лежал, улыбался. Он был охотник, мечтал об охоте, и на охоте умер. Косуля даже не убежала. Она смотрела на нас с холма, наклонив голову. Видимо, до сих пор бог оберегал ее для каких-то своих интриг.
И мы не знали, что наше положение было усугублено тем, что буквально за день до злополучной охоты Паша подал командиру роты рапорт: "Прошу полагать меня женатым..." Формулировку ему, матерясь и размахивая кулаками, подсказал старшина Зотов.
Когда Паша умер, мы с Писателем Пе уже больше месяца числились в музвзводе. Писатель Пе бухал на барабане, я пумкал на теноре "эс-та-та... эс-та-та... па-па..."
После тихих похорон Егора нам совсем тоскливо стало в разведроте. Демобилизовались старики, пришла молодежь, которая, как мундирчик, надела на себя славу нашего подразделения и чувствовала себя в нем ловко, как в своем. Нам, увы, этот мундирчик жал.
И вот лежим мы с Писателем Пе на стадионе. Где военные остановились, там сразу: стадион, сортир и кухня. Мимо нас идет какой-то бледный, высокий незнакомый старшина.
- Это капельмейстер. Врубайся, - прошептал мне Писатель Пе и громко так: - Не знаю, не знаю. Симфонизм тебе не горох. Тебе бы только пальцы. Ты не прав. Я виртуозности не отрицаю, но тема и звучание должны развиваться вширь.
- А я чихал, - говорю я наобум. - Я полагаю музыку в себе. Она во мне всегда. Лишь смена ритмов. Я виртуоз...
И как это ловко у меня получилось. Незнакомый старшина остановился, как будто влетел лицом в паутину. Помахал руками перед носом, повернулся и говорит нам:
- Вы музыканты?
- А вы гуляйте, - отвечаем. - Мало ли кем мы были - может, даже кондитерами. Ауф вам видерзеен с большим приветом.
- Нет, - говорит. - Я серьезно. Я командир музвзвода.
Мы в смех - мол, не слышали о таком.
- Нет, - говорит. - Я не шучу. Теперь в подразделении есть музвзвод и я занимаюсь его доукомплектацией. Ищу музыкантов. Вы музыканты. Я слышал ваш разговор. Ваши фамилии.
Мы неохотно сообщаем. Ломаемся; мол, мы только еще учились в музучилище и школе при консерватории. Мол, где нам...
Но он уже пошел. Высокий и сухой. Он был репатриант, и музыкантов набрал из репатриированных ребят, преимущественно из западных областей. Ему с ними было легче чувствовать себя командиром. И кой черт внушил ему поверить нам. Но именно с этого момента началась его реальная жизнь, полная тревоги, забот и даже музыки - он был отличный трубач.
На следующий день нас вызвали к начальнику строевой части, майору Рубцову.
- Старшина-капельмейстер попросил перевести вас в музвзвод, - сказал майор. - Я не спрашиваю, как вы ему мозги закрутили. Я перевел. Но указал ему, чтобы ваших фамилий я от него больше не слышал. Я ему, конечно, дал понять, кто вы такие есть на самом деле, но он не понял. Пускай пеняет на себя.
- Пускай пеняет, - согласились мы с майором. - Он глупый.
- А вот ваш Перевесов!.. Штучка! - Майор положил перед нами рапорт Паши Сливухи: "Прошу полагать меня женатым..." - Ему я тоже намекал...
- Перевесова на губу! - закричали мы. - Или в тыл. В Сибирь! - Мы были совершенно искренне возмущены желанием Паши жениться на немке Ульхен. Умом мы понимаем, что такая житейская ситуация возможна. Но куда он ее повезет? К себе в деревню под соломенную крышу? В колхозе даже картошки не вдоволь. Или, скажем, в Ленинград в общагу, если ему удастся устроиться учеником-токарем или слесарем на какой-нибудь завод? Ну, а чтобы остаться здесь в Германии, у нее, наверно, и квартира есть, и работа Паше нашлась бы, - такое нам и в голову не приходило, о таком и язык-то повернуться не мог.
- Может, она беременная? - спросил майор.
- Не знаем, - сказали мы удрученно и тут же развеселились: - У нашего Паши дите будет - Адольф Павлович.
- Он же ваш друг, - урезонил нас майор. - Идите. Играйте музыку. - В интонациях его голоса мы уловили презрение к нам и сочувствие к Паше.
Старшина нашей роты уже получил предписание о нашем переводе в музвзвод.
- Очень рад с вами расстаться, - сказал он.
- Старшина, почему ты нас так не любишь?
- Нет, я люблю вас и так сильно люблю, что боюсь загреметь вместе с вами когда-нибудь под трибунал.
Мы обиделись. Мы были честные советские воины. Без склонности к воровству, мародерству, насилию и спекуляции - просто нам было скучно. Спидометр, запущенный в нас наступлением и победой, работал, но отсчитывал он уже не мили, а миллиметры. Ну не нравился нам наш бег на месте, и накапливающаяся в нас нервозность могла, конечно, толкнуть нас на поступки в высшей степени безрассудные.
- Я бы вас демобилизовал в первую очередь - как контуженых, - сказал старшина.
Мы поклали вещи в мешок, долго вертели в руках старую краснощекую хромку. Вместе с Толей Сивашкиным ушла гармонь, аккордеон "Хонер", старушка хромка осталась при нас.
- Взять хотите? - спросил старшина. - Берите. В музвзводе ей и место. А тут без вас писарь ее узаконит. Он себя демобилизует по состоянию здоровья, харя.
Старшина писаря не любил. Да и никто его не жаловал, кроме командира роты. Командир до самого конца войны и еще немного после надеялся на писарев литературный дар - очень ему хотелось называться Героем Советского Союза. А у самого писаря, мы знали, в мешке лежало штук восемь медалей "За отвагу" и "Боевые заслуги". Он вписывал свою фамилию почти во все представления к наградам.
Так мы и пришли в музвзвод с нашей старенькой хромкой.
Встретили нас более чем почтительно, даже с испугом. Испуг этот вырос в страх, когда мы, бросив гармошку на койку, вынули из-за пазух по парабеллуму и засунули их под матрацы. Чудики-музыканты в необмятых гимнастерочках вымелись из комнаты, как будто и не присутствовали. Мы спрятали парабеллумы обратно за пазуху и принялись приклеивать к стене девушек в купальниках и без купальников, вырезанных из немецких журналов.
Мы полежали немножко, положив ноги в ботинках на спинки коек. Потом взяли хромку и пошли разыскивать среди музыкантов, кто ею владеет. Владел маленький мордастенький тромбонист. Но куда ему было до Толи Сивашкина семь верст по грязи и все на карачках.
Мордастенький поразвлекал нас музыкой. Мы слушали с каменными лицами. Он вернул нам гармошку и, как нам показалось, всхлипнул.
Мы направились к капельмейстеру. Мы ему сказали:
- Дарим. Запишите в реестр, чтобы никакая сволочь не сперла. Прославленная в боях хроматическая гармошка. Мы под ее звуки в атаку ходили.
Капельмейстер, поблагодарил вежливо. Спросил, какие инструменты из медных мы предпочитаем. Он понимает, конечно, что мы, пианисты, выше. Но нам не трудно будет освоить медные и почувствовать красоту их звучания.
Мы уставились на него как на слабоумного.
В его комнате стояла узкая койка. На небольшом узком столике лежала сверкающая труба. А на стене висело манто под котик. Оно было в чехле из прозрачной пленки. Мы пощупали в комнате все - и манто тоже - и молча вышли.
Внизу нас ждал Шаляпин. Пришел в гости. И красовался перед музыкантами. В ордене и при двух медалях: "За взятие Берлина" и "За победу над Германией".
- Я бы, - говорит он, - спел бы охотно. Но это же музыкальная шпана лабухи. Они в вокале не понимают ни черта.
- А ты спой, Федя, - попросили мы. - Для нас. Вокализ.
Шаляпин стал в позу, и домик музыкальный, двухэтажный, розовый затрясся в ознобе.