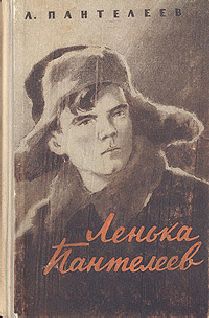Алексей Пантелеев - Гостиница Лондонская
В самый разгар новогоднего бала, когда все уже и так ходило ходуном, у входа в ресторан возникла какая-то паника, раздался женский визг, что-то упало, рассыпалось, зазвенело, и в ту же минуту перестал играть оркестр.
Через ресторанный зал, по-военному четко и прямо, вытянувшись как тамбурмажор, шел - и все в ужасе расступались перед ним - элегантно одетый, в смокинге с белой манишкой и с черной бабочкой галстуки, укротитель львов Борис Эдер, а у ноги его, грациозно, по-боксерски повиливая задом, шла - мне показалось, на поводке, а выяснилось, что просто так, на честном слове, из одной преданности к своему владыке и повелителю, - шла та самая эдеровская львица.
Не знаю, зачем укротитель пришел в ресторан. Может быть, у него в номере собрались гости и он спустился вниз прикупить вина или папирос. В те далекие времена в конце ресторанного зала "Лондонской" была арка и в ней небольшое, в четыре-пять ступенек возвышение, некое подобие эстрады. Возможно, в еще более давние времена, в годы, когда в "Лондонской" останавливались Чехов, Куприн, Бунин, это и в самом деле была эстрада и на ее подмостках выступали, отплясывали канкан или кекуок какие-нибудь шантанные дивы. Сейчас же на возвышении помещался буфет, а слева стояла касса "националь", где официанты выбивали чеки на свиные отбивные, салат оливье и прочие еды и пития. За кассой сидела полная белокурая кассирша в белом крахмальном халате.
Что там такое случилось, чем не понравилась или, наоборот, чем приглянулась эта одесская красавица красавице нубийской - не сказал бы, вероятно, и сам Борис Эдер. Может быть, ее внимание привлек белоснежный халат кассирши, может быть, что-то знакомое, цирковое, а то и что-нибудь еще более далекое, детское, африканские возникло в ее памяти при виде сверкающей никелем кассы - не знаю, но только внезапно, на подходе к буфету, львица отделилась от ноги хозяина и быстро пошла в сторону кассы. Кассирша замерла, вскочила, закричала. Быть может, и львица тоже испугалась, она тоже вскочила, сделала стойку и опустила свои тяжелые лапы на плечи помертвевшей от страха одесситки. Подробностей мы, конечно, не видели. Мы только услышали отчаянный женский вопль, а за ним - повелительный, громкий, как выстрел или удар бича, окрик Эдера.
О том, что творилось в эту минуту в ресторане, рассказывать вряд ли нужно.
У кассирши был порван халат, разодрано платье, в кровь исцарапано плечо.
Четыре моряка дальнего плавания, возбужденные, красные, потные от танцев и вина, торжественно несли ее, потерявшую сознание, на руках из зала.
Проснувшись на другое утро, я коротко занес это ночное происшествие в записную книжку. Чего ради я это сделал, объяснить не берусь. Ведь если бы я не надумал сейчас писать воспоминания, мне вряд ли когда-нибудь в жизни могла понадобиться эта запись. Вообще трудно представить в каком-нибудь романе, рассказе или хотя бы в очерке советского писателя эту историю с дрессированной львицей в ночном ресторане. Но совсем по-другому обстоит дело у наших западных собратьев. У них, как я убедился, более рачительное, более, что ли, деловое отношение к житейскому, наблюденному материалу. То, что однажды попало в записную книжку, должно быть использовано.
Лет десять - пятнадцать назад читаю только что вышедший на русском языке роман Эльзы Триоле "Инспектор развалин". Там дело происходит в послевоенной Германии, в маленьком полуразрушенном городке американской зоны, в новогоднюю ночь, в дансинге.
И вдруг - батюшки! - что такое? - что-то знакомое! В разгар веселья в зале появляется "человек со львицей на поводке"...
"Был перерыв между танцами. Человек пробирался в людском водовороте по бурлящему руслу зала. Не знаю, как он ухитрялся найти проход и этой тесноте... Львица шла на поводке за хозяином, мягко ступая большими лапами и нюхая воздух... Публика - и мужчины в военном и женщины - находили все это ужасно забавным, они только чуть-чуть отступали, смеялись, что-то выкрикивали"...
На двух страницах описывается, как шли дрессировщик и львица через зал, какие они были, дрессировщик и львица, как вела себя публика...
"Дойдя до другого конца зала, укротитель со своей львицей остановился... Мы увидели, как львица вдруг встала на дыбы и положила передние лапы через стойку прямо на мощную грудь кассирши. Кассирша закричала страшным голосом, потонувшим в грохоте оркестра, загремевшего с новой силой... Пары снова завертелись в безумном танце... Укротитель потянул поводок, лапы львицы соскользнули с груди кассирши, срывая куски корсажа"...
Вот как иной раз жизненные наблюдения претворяются в художественный образ. Не все ли, в конце концов, равно - Одесса или какой-нибудь Розенкирхен, ресторан или дансинг, халат или корсаж?! Укротитель львов вправе приехать со своим цирком куда угодно, и опять-таки куда угодно он волен привести свою дрессированную львицу, а львица вправе наброситься тоже на кого угодно и разорвать что ей захочется - халат, корсаж или парчовое платье.
Быть может, это мое свидетельство пригодится когда-нибудь, окажется полезным ученым-литературоведам, занимающимся историей французской литературы XX века.
6
Время было как будто веселое, беззаботное, безоблачное. Гремел джаз, сыпался разноцветный дождь конфетти, на одесских заборах пестрели цирковые афиши, студия ВУФКУ снимала фильм с десятилетней Гулей Королевой в заглавной роли. Но не все было мирно и безоблачно в этом мире. Еще второго декабря, в скором поезде "Минводы-Тифлис" я узнал, что накануне у нас в Ленинграде, в Смольном, убили Сергея Мироновича Кирова. Через день-два в газетах появились сообщения об арестах. Западный мир кое-как выкарабкивался из кризиса. Набирал силы фашизм. Месяца полтора спустя, уже в Одессе, иду на главный почтамт, перехожу бульвар и вдруг вижу - свесившееся чуть ли не до середины улицы огромное полотнище красного флага с белым кругом посередине и с черным пауком свастики в этом круге. Флаг был водружен на здании германского консульства. Из утренних газет я уже знал о победе гитлеровцев на плебисците в Саарской области.
А мы сидели каждый в своей комнате и писали сценарии.
Однажды вечером пришла Эльза Юрьевна и сказала:
- Арагон кончил сценарий, он хотел бы, чтобы вы прочли его.
Помню, как захолонуло у меня где-то под сердцем, как слегка даже передернуло меня, молодого писателя, с восьмилетним, правда, стажем работы в советской литературе, когда я прочел название этого арагоновского сценария, написанного по заказу "дитячей студии":
"ЛЮБОВНИКИ 1904 ГОДА".
Я еще не открыл папки со сценарием, а уже мелькнуло у меня что-то вроде предчувствия.
"Не пойдет... не будет поставлен..."
Сценарий поначалу не только не понравился мне, он меня напугал.
После заглавного титра "Любовники 1904 года" шли огромные цитаты - из Карла Маркса и, кажется, из Ленина. Затем должен был быть показан Баку 1904 года. Нефтяные промыслы. Надсмотрщики разгуливают между работающими и бьют их по голым, лоснящимся от пота и нефти спинам. Потом - "они ж там пируют". Контрасты. Опять цитаты. Глаза, полные муки... И - Франция. Как она была смонтирована с Баку - не помню. Вероятно, чтобы вспомнить и понять, следовало бы перечитать "Базельские колокола".
Первая часть сценария была данью молодого коммуниста, недавнего сюрреалиста Арагона современному "левому" искусству. Для нас, для советского кинематографа, это было уже пройденным этапом - все эти цитаты, надсмотрщики с нагайками выглядели наивно, схематично, "однообразно". А дальше - дальше шла история двух молодых влюбленных. И это было прекрасно, я читал и перечитывал сценарий Арагона далеко за полночь.
Потом вышел в коридор, подошел к двери соседнего номера. За дверью слышались голоса, Арагоны не спали. Я сходил за сценарием и осторожно постучал. Мне показалось, что меня ждали, - слишком уж поспешно было сказано:
- Entrez!
Удивительного тут ничего нет: все мы, пишущие, с особым трепетом ожидаем, что скажет о нашем творении именно первый читатель.
- Ну, что? - сказала Эльза Юрьевна.
Я с удовольствием выложил все, что думал о сценарии, весь неостывший еще восторг. Эти слова мои Арагон понимал без перевода, на красивых губах его играла довольная улыбка.
Потом я сказал, что мне очень не нравятся начальные кадры. И объяснил, чем именно.
Арагон посмотрел на Эльзу Юрьевну. Она перевела.
- Так надо, - вежливо и вместе с тем с непреклонной твердостью сказал Арагон.
...Сценарный отдел студии с быстротой небывалой принял и одобрил "Любовников 1904 года". Арагон получил гонорар и уехал в Париж. Перед отъездом или раньше, не помню, он высказал пожелание, чтобы фильм по его сценарию ставил французский режиссер. И назвал Жана Ло. В тот же день Жану Ло написали. Если бы Арагон назвал Рене Клера или Марселя Карне, я думаю, были бы посланы приглашения и Марселю Карне, и Рене Клеру.
Не могу вспомнить, когда появился Жан в Одессе - до отъезда Арагонов или после. Думаю, все-таки после - потому что ни в одном случае не помню их вместе. Не было его, по-моему, и на проводах, то есть когда Арагоны уезжали из гостиницы. Я помогал им, нес до автомобиля какую-то сумку или пишущую машинку. Была среди провожающих З.М.Королева, был начальник сценарного отдела М.Г.Корик, было еще несколько человек. Жана среди них не вижу.