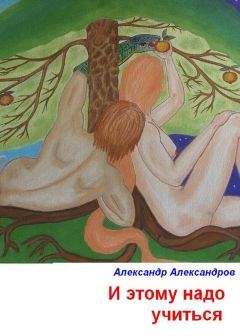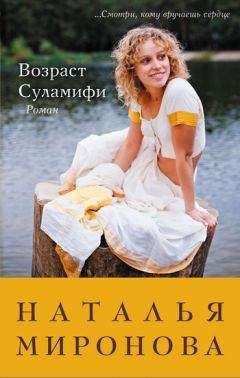Анатолий Ким - Детские игры
Это был большой полный мальчик, заика, с белым нежным лицом и ямочками на щеках. Он вечно что-нибудь жевал, какое-нибудь пахучее домашнее печенье, что-то, вероятно, очень вкусное, но стоило у него попросить чуток попробовать, как он торопливо засовывал в рот все и показывал пустые руки: нету, мол, как видишь. Валерке он не нравился, мне тоже, был он неуклюжий и бестолковый, его часто не принимали в игры. Тогда он простаивал один в сторонке, сложив за спиной руки, и увлеченно наблюдал за нами. В поход мы взяли его только потому, что больше желающих не оказалось, к тому же он принес из дому спички, полную коробку из-под обуви. Валерка повалил его, потыкал носом в снег, а затем велел убираться прочь. Тот молча поднялся, выплюнул снег, отряхнул одежду, плаксиво морщась, и покорно поплелся в сторону поселка, напрямик по серому насту, оставляя позади себя белую цепочку следов.
Мы с Валеркой выжали мои носки и портянки, он дал мне свои толстые вязаные носки, а все остальное осталось на мне мокрое и ужасающе холодное я провалился в снежную кашу по пояс. Надо было подумать, что же делать. Я совсем закоченел, пал духом и почти не мог идти. И тогда Валерка взвалил меня на спину, сердито приказал не давить ему на горло и, низко пригибаясь, потащился по глубоким следам Вальки Сочина.
С этого дня Вальке не было места в нашем обществе - его не брали ни в какую команду, будь то даже "немцы". Он вообще не смел приблизиться к нам, маячил где-то далеко в стороне, выглядывал из-за угла школы. Рубил в одиночестве прошлогоднюю траву саблей, подвесив у себя во дворе старую куклу сестры, пырял в нее самодельным штыком.
Но вот разразился весенний двенадцатибалльный шторм. Два дня месил он океан исполинской беспощадной рукой. Отец Вальки Сочина и девять человек утонули, потом прибило их к берегу.
Мы подошли к его дому и увидели, что Валька стоит во дворе возле столбика с бельевой веревкой, к которому была привязана ободранная старая кукла, и беззвучно сотрясается от плача, уткнув лицо в ладони. Мы долго смотрели, как он плачет, потом Валерка засунул свой меч за пояс, открыл калитку и вошел во двор. Медленно и неуверенно подошел он к Вальке и остановился напротив. Снял с правой руки старую кожаную рукавицу, свою боевую перчатку, всунул в рот изогнутый большой палец и, покусывая его, исподлобья уставился на нас холодным, непонятным взглядом. И мы все Фома-предатель, Борька Корниенко, Генка Свинухов, я - друг за другом прошли через скрипучую калитку и встали вокруг Вальки, траурно опустив к земле свои мечи и сабли.
4
Не успевала еще земля освободиться от последних истлевающих клочьев зимнего хлама, как мы переносили свои игры на сопку. Верх ее, плоский и ровный, простирался вплоть до подножий темнеющих вдали гор, вершины и склоны которых были в белых лежинах снега. Эти горы назывались у нас "Черная сопка", "Медвежья сопка", "Два брата"... То были недоступные для нас громады, то было соседство миллионов лет косного молчания рядом с нашим быстротечным мальчишеством. А позади этих мрачноватых исполинов, меж их плеч, синели островерхие вулканы и пики - тающие в заоблачье фантомы уже вовсе не нашей эры. Мы взирали на них с недоверием, сомневаясь в их реальности, и даже не считали нужным давать им названия.
Все обширное плато, предваряющее горы, выглядело странной равниной. Оно было сплошь покрыто округлыми кочками, похожими на спины прилегших тучных баранов. Одинаково ровные, неисчислимые, эти кочки были одеты пружинистым покровом мхов и цепких стелющихся ягодников. Мы ползали по ним, приминая ладонями упругое, щекочущее кожу руно, и подбирали прошлогоднюю бруснику. Перезимовавшие под тяжелым, душным слоем снега, омытые в десяти водах весны, багряные ягоды вздрагивали и осыпались, обнаруженные в своих потайных местах, и лопались под нашими жадными пальцами. Эту ягоду лучше всего было брать прямо губами, как если бы пришлось пить росу. Вкус такой ягоды невозможно оценить взрослому человеку. Мы ползали по сухим, упругим холмикам, пачкая рубахи кровавым соком, и выпивали ягодку за ягодкой. А рядом прыгали прилетевшие из-за моря кулики и занимались тем же, молча переглядываясь с нами.
В такой молчаливой работе проходили часы, начинали уставать губы, вытянутые словно для поцелуя, чесались ладони, натертые колючим мхом и вощеной листвой брусничника. Проглотившие тысячи ягодок, но отнюдь не сытые, уже чуть утомленные и озябшие, но все еще продолжавшие окидывать блуждающим взором укромные пазушки ягодника, в иные минуты мы впадали в томительное беспокойство; приходила внезапная догадка, что застывшее под выгнутым куполом неба великое время все же успело утратить часть себя, просочилось куда-то невозвратно и коварно. То были внезапные уколы вечности, знакомые всем, настигающие всегда неожиданно. И, неспособные унывать и грустить, мы начинали дурачиться, переворачивались на спину и, припрыгивая всем телом на мягком горбу кочки, то задирали ноги к небу, то кувыркались через голову восстанавливали нормальное кровообращение. Кулички поднимались с кочек и отлетали шагов на пятнадцать в сторону.
Среди кочковатых ягодных просторов кое-где темнели заросли карликового кедрача, стелющиеся кусты которого перепутывались крепкими кривыми ветвями, колючая шуба густой хвои плотно накрывала их сверху. Под этими кустами обнаруживались вдруг удивительно уютные темные пещерки, вид которых пробуждал нашу воинственность. Эти зеленые убежища не могли быть не чем иным, как военными объектами. Мы начинали игру "в штаб".
Находились старые провода и куски веревки, которые связывались и протягивались от одного штаба к другому; звучали торопливые условные сигналы: "Я Чайка-два, я Чайка-два!", "Я двадцать второй, отвечайте!" Откладывались в сторону деревянные мечи и фанерные щиты - военные действия приобретали современный характер. Бахали револьверные выстрелы, строчил автомат, рвались гранаты. Враги падали теперь не поодиночке, сраженные свистящим ударом сабли или меткой стрелой, но сразу сотнями под шквальным пулеметным огнем. Взрывом удачно брошенной гранаты разметывало целую толпу атакующих - будто кривляясь, они вскидывали руки, хватали воздух, гнулись назад и в густом дыму опрокидывались на землю...
Ну что ж, оставим в покое детей, пусть играют в свои военные игры. Другое время наступит для других десятилетних детей, которым взрослые сумеют объяснить, что это не самая лучшая игра, пусть себе играют - они не виноваты. Я думаю теперь о темной силе, что вмешивается в детские игры, чтобы испортить их...
Мне хотелось рассказать о своем детском друге, которого звали Валерка Додон, в ком самым главным качеством было поразительно верное чувство справедливости. С этим он пришел на свет - и с этим должен оставаться всегда, иначе нельзя, потому что энергия жизни есть все же мощная энергия добра.
Семья их была культурной московской семьей, временно оказавшейся на Камчатке. Где-то в Москве у них остались и квартира, и дача, и какая-то тетя Агнесса. Они любили вспоминать прежнюю свою жизнь, скучали по ней, нежно произносили, собравшись вечером в "медвежьей" комнате, странно звучащие слова: Якиманка, Сивцев Вражек, Разгуляй... Мать Валерки была очень похожа на него - белокурая красивая женщина, ярко красившая губы, курившая папиросы "Беломор". Отчим, которого дети называли дядей Юрой, был маленький чистенький мужчина в золотых очках, главный бухгалтер рыбокомбината. Мать тоже была бухгалтером.
Дядя Юра в свободное время писал масляными красками - аккуратными кисточками по аккуратно натянутому холстику, размешивая краски на аккуратной маленькой палитре. Я помню, как он копировал из журнала картину, которая называлась "Все в прошлом": сирень, странная старуха в чепчике и кружевах, рядом другая... Это был тихий человек, не мешавший нашим играм...
И вдруг мы узнали, что родители Валерки обвиняются в крупной растрате и их собираются судить. По всему поселку шли разговоры о тысячах, что якобы наворовали себе главбух с женой. Они устроили какую-то "махинацию", и их разоблачили.
Мы постигали зловещий смысл слова судить, глядя на взрослых. Мне оно внушало необыкновенный, почти мистический ужас. Мои родители шептались с испуганными лицами, мне было запрещено ходить к Валерке.
Сам он вскоре стал избегать нашего общества и, неуловимо переменившийся, как-то сразу повзрослевший, стал чужд нам. Он проходил по улице мимо наших игрищ с презрительным и вызывающим видом, щурил глаза и холодно, отталкивающе улыбался. Я как-то уговорил Генку Свинухова и Борьку Корниенко, и вот мы все втроем подошли к дому нашего атамана и стали вызывать его старым условным сигналом: "Я Чайка-два, я Чайка-два!" Открылось со стуком окно, показалось бледное гневное лицо Валерки. Он долго глядел на нас, покусывая большой палец руки, который у него удивительным образом загибался назад... "Ну, чего надо? Идите все отсюда!" - приказал он нам, и мы ушли.