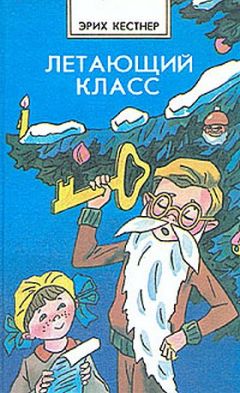Эрих Кестнер - Когда я был маленьким
Под звон литавр и пушек гром,
Германию бы превратили
В огромный сумасшедший дом...
Тогда б всех мыслящих судили
И тюрьмы были бы полны...
Но, к счастью, мы побеждены.
{Перевод К. Богатырева.}
О каком-либо сотрудничестве с режимом для такого человека, как Кестнер, не могло быть и речи. И все-таки он вернулся. Тому были разные объяснения. Он позже называл себя "деревом, которое в Германии выросло и, если придется, в Германии и засохнет". Он говорил: "Я остался, чтобы быть свидетелем". Решающим, возможно, было убеждение, что все это ненадолго, что гитлеровская диктатура скоро потерпит крах и он, писатель, сможет рассказать об этом как очевидец. Увы, в оценке положения этот ироничный трезвый человек на сей раз ошибся. Ждать пришлось целых двенадцать лет, трудных, опасных, в литературном отношении неблагодатных.
Все пишущие о Кестнере, конечно же, упоминают эпизод, когда 10 мая 1933 года на берлинской площади Оперы бросали в костер его книги - вместе с книгами Генриха Манна и Эриха Мария Ремарка, Альфреда Деблина и Бертольта Брехта, Максима Горького и Эрнста Хемингуэя. То была действительно горькая честь - оказаться в одном списке с лучшими представителями немецкой и мировой литературы. Менее известно, что Кестнер, единственный из "сжигаемых", явился "лично присутствовать на этом театральном представлении". "Я стоял перед университетом, - вспоминал он после войны, стиснутый среди студентов в форме штурмовиков (цвет нации!), смотрел, как в трепещущее пламя летят наши книги, слушал слащавые тирады этих мелких отъявленных лгунов". Каждый акт этого средневекового аутодафе сопровождался ритуальными выкриками: объяснялось, за что именно предаются огню те или иные книги. Кестнер попал в одну "обойму" с Генрихом Манном: "Против декаданса и морального разложения! За добропорядочность и нравственность в семье и государстве!" Можно ли было откровенней и саморазоблачительней продемонстрировать собственное лицемерие, убожество и примитивность интеллектуального и нравственного уровня! Какая-то женщина в толпе узнала Кестнера, крикнула: "А вот и он сам!" Писателю стало не по себе.
В тот раз все обошлось. Арестовали Кестнера позже, доставили в гестапо для объяснений по поводу стихов, появившихся в эмигрантской печати. (В гестапо его встретили насмешливыми возгласами: "А, вот и Эмиль, и сыщики!") Удалось как-то выпутаться. Тем не менее в 1934 году было объявлено, что Кестнеру, как элементу "нежелательному и политически неблагонадежному", запрещено впредь заниматься литературной деятельностью. (За год до того он еще успел выпустить повесть "Эмиль и трое близнецов".) Позднее запрет был несколько смягчен, писателю разрешили издать несколько книг за границей, главным образом в Швейцарии. Это были далеко не лучшие из кестнеровских работ, хотя и среди них есть интересные. Например, "Пропавшая миниатюра" (1935) - история, как некий бравый мясник помогал своему земляку-берлинцу доставить в столицу ценную миниатюру; миниатюру, конечно, украли в пути; потом, впрочем, выясняется, что украдена была лишь копия, и все заканчивается благополучно. Чем-то это напоминает "Эмиля и сыщиков". В эти годы был осуществлен, среди прочего, пересказ для детей знаменитой народной книги о Тиле Уленшпигеле, написан сценарий о бароне Мюнхгаузене, по которому поставили фильм, пользовавшийся большим успехом. В 1943 году запрет на литературную деятельность был возобновлен уже окончательно.
Своеобразным документом тогдашней изоляции и одиночества стали кестнеровские "Письма самому себе". "Ты когда-то писал книги, надеясь, что другие люди, дети и те, кто уже перестал расти, узнают из них, что ты считаешь хорошим или плохим, красивым или безобразным, смешным или печальным, - с горечью размышлял этот "правнук немецкого Просвещения". - Ты надеялся принести пользу. Это была ошибка, над которой теперь можешь лишь снисходительно усмехаться... Ты напоминаешь человека, который пробовал уговорить рыб, чтобы они выбрались, наконец, на берег, научились бегать и убедились в преимуществах сухопутной жизни".
Лишь позже, после войны, Кестнер узнал, что старые его книги все эти годы продолжали, несмотря на запреты, ходить по рукам. Его стихи переписывали от руки в Варшавском гетто, и даже в армейских казармах читали тайком "Ты знаешь край, где расцветают пушки" и "Голоса из братской могилы":
Четыре года эта бойня длилась,
Четыре года длились, как века.
Строки, написанные о первой мировой войне, обретали новую, неожиданную злободневность.
Самого писателя еще раз доставляли в гестапо для объяснений. Он приспособился уклоняться от опасностей: когда в Берлине усиливалась волна арестов, переезжал в Дрезден, где по-прежнему жили его родители, и наоборот. Однажды, предупрежденный знакомыми об угрозе, он покинул Дрезден, едва приехав, - это было за несколько дней до того, как город был полностью разрушен англо-американской авиацией (родители выжили). Впоследствии Кестнер опубликовал дневник с записями 1945 года, где рассказывал о своей жизни в эти месяцы, когда агонизировал гитлеровский режим.
Сразу же после войны писатель, стосковавшийся по активной деятельности, с необычайной энергией включается в литературную жизнь. Обосновавшись в Мюнхене, он вместе с друзьями организует кабаре "Балаган", пишет для него спектакли и сатирические куплеты, руководит литературным отделом газеты "Нойе цайтунг", поздней начинает издавать журнал для юношества "Пингвин". Появляются сборники его старых и новых стихов ("Перебирая свои книги", 1946, "Повседневные дела", 1948), пьесы ("Школа диктаторов", 1949), книги для детей ("Двойная Лоттхен", 1949, "Конференция зверей", 1949). Он оказывается одним из тех, кто определял облик складывавшейся западногерманской литературы; во всяком случае, он представлял ее лучшую, наиболее авторитетную часть, обеспечивая преемственность демократических, антифашистских традиций. В 1952-1962 годах Кестнер был президентом, затем почетным президентом западногерманского ПЕН-центра.
Ни одна жизненно важная тема тех лет не прошла мимо него. Он писал о необходимости расчета с нацистским прошлым: "Непреодоленное прошлое похоже на беспокойное привидение, что бродит по нашим снам и по нашей яви, ожидая, как это водится у привидений, когда же мы взглянем на него, заговорим с ним, выслушаем его. Напрасно, перепуганные до смерти, мы пялим на глаза ночной колпак. Это не способ. Это не поможет ни привидению, ни нам. Все равно придется рано ли, поздно посмотреть ему прямо в лицо и сказать: "Говори!" Привидение должно заговорить, и нам надо выслушать его. До той поры нам не будет покоя".
Он сатирически высмеивал современную ему западногерманскую Действительность - реальность "экономического чуда" и "маленькой свободы":
Ведь мы большой свободы не добились,
Опять не повезло нам, как всегда...
Ведь мы большой свободы не добились.
А маленькой? Пожалуй, да.
{Перевод К. Богатырева.}
Убежденный противник милитаризма и войны, он борется против новой угрозы, нависшей над человечеством. Показательно, что при этом Кестнер обращается к жанру детской сказки. В книге "Конференция зверей" животные, разочаровавшись в способности людей разумно уладить свои проблемы, берутся за дело сами. Они созывают собственную конференцию и решают предотвратить войну. Мыши поедают военные документы, моль уничтожает армейскую форму; наконец животные идут на самый отчаянный шаг: похищают у людей детей и прячут на необитаемом острове. Лишь таким крайним средством удается их вразумить и умерить слишком воинственный пыл.
Разумеется, и тут перед нами всего только литературное, сказочное решение проблемы. В жизни все трудней, драматичней, и Кестнер не хуже других это понимал. Скепсиса у него с годами не убавилось. Но, как и прежде, он чувствовал себя немного школьным учителем, а это, по его убеждению, налагало обязательства. Обращаясь к детям, писатель считал необходимым вспомнить о надежде - он связывал ее с ними. "Пессимизм - не позиция, когда речь идет о детях! - говорил Кестнер в одном из выступлений 1953 года. - В нашем печальном мире помочь молодым людям может только тот, кто верит в людей".
Написанные им в эти годы книги "Когда я был маленьким" (1957) и "Мальчик из спичечной коробки" (1963), несомненно, относятся к числу его лучших работ. Сам автор предназначал их для читателей "от восьми до восьмидесяти" - и аудитория у него действительно не ограничена возрастом.
Созданное Кестнером, разумеется, неравноценно. Немало у него вещей проходных, заведомо не рассчитанных на долгую жизнь. Никогда не терявший способности к самоиронии, писатель однажды охарактеризовал свое творчество как "прикладную лирику", и эту характеристику как-то слишком охотно подхватили иные критики. Но вот пришла пора окинуть взором все сделанное им за почти полвека интенсивной работы: полтора десятка детских книг (некоторые из них уже стали классикой) - романы, пьесы, сценарии, множество стихов, статей, - и стало очевидно, что его вклад в немецкую литературу нашего века был значительным и серьезным. Этот вклад определяется даже не только книгами: Эрих Кестнер был одним из тех, кто самим своим присутствием, авторитетом - моральным, литературным, человеческим - налагал отпечаток на культурную жизнь своего времени.