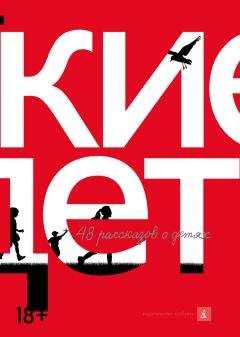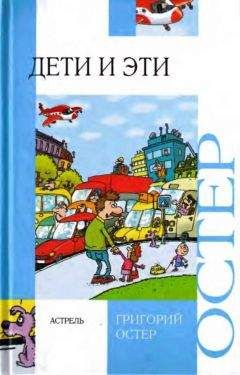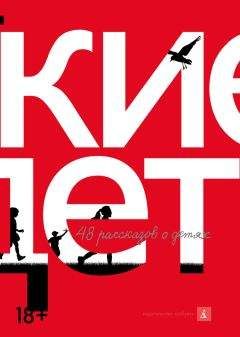Михаил Пришвин - Кащеева цепь
— Что это?
— Папа вчера мне дал: голубые бобры.
— Фантазер был! — улыбнулись дамы и заговорили между собой, будто тут и не было возле них Куры-мушки.
— И правда — одни голубые бобры! Бедная Мария Ивановна! Имение под двойной закладной, пять человек детей!
— И еще купцы! Последний дворянин живет на земле — и это у него естественно; разорится и все живет, и все. естественно, а купцы полезли на землю зачем? Что им земля? Простой выгоды нет, масло в городе купить дешевле обойдется.
— Хотят жить, как господа!
— Вот и пожили: все профуфукал покойник, и, правда, остались какие-то голубые бобры.
— Сиротка, — погладила Софья Александровна по головке Курымушку. Бедная Мария Ивановна, совсем еще молодая женщина.
Пришла мать с платком в руке, в слезах, обнялась со всеми, сказала:
— Теперь всю жизнь работать на банк!
— Эх, Мария Ивановна, мы все на банк работаем.
— Ну, вы — дворяне, вас все-таки опекают.
— Зато вы такая здоровая и сильная.
— Да, это была наша коренная ошибка, не нужно было нам забираться в деревню, все равно земля рано или поздно перейдет мужикам.
— Почему вы так думаете?
— Потому что им волю объявили, а земли не дали. Их много, они одного хотят — земли и своего добьются: земля непременно перейдет мужикам.
Из всех этих разговоров Курымушка заметил себе много неприятных вещей: какой-то Банк схватил маму, и она теперь будет на него работать; еще нехорошее, что он — сирота, что «мы — купцы» и что земля перейдет мужикам. Хороши были только голубые бобры, но и то над этим смеялись.
БЛЕДНЫЙ ГОСПОДИН
Далеко до солнца, но мать всегда до солнца встает и уходит в поля, никогда ее летом поутру не увидеть Куры-мушке. Только за обедом она сидит загорелая, как бронзовая, и могучая, ест и сама разговаривает со старостой Иваном Михалычем.
— Рыжка — того?
— Причинает, Марья Ивановна!
— А Бурышка?
— Не того!
— Опять ты за свое: «не того, не того»! Говори языком человеческим, я тебя спрашиваю: Бурышка... того?
— Пошла в передои.
Вот те раз! Ну, как же ты это допустил?
— Да это не я.
— А кто же, не ты?
— Бык ослабел.
— Вот те раз! Ты с ума сошел! «Бык ослабел»! Ты сам ослабел.
И так весь обед точит она Ивана Михалыча. Ничего в этом не понимает Курымушка, и только жалко ему и даже страшно бывает подумать, что старшие от ранней весны и до поздней осени должны работать на Банк.
Кто это Банк и где он? (На небе господь живет, а Банк — в городе, на синее небо летают птицы, в город ездят на лошадях, и там — Банк.) Все работают с утра до вечера на Банк, — Иван Михалыч, мать и особенно мужики.
Только поздней осенью, когда начинает рано темнеть, навещает часто соседка Софья Александровна, ходит по коридору до забитого на зиму зала и обратно в столовую, до самого кресла Курым, откуда он все слушает и обо всем думает. Бывает, приходит из своей школы тетя Дунечка; с ней мать говорит про Софью Александровну, а с той про Дунечку и о том, как можно освободиться от Банка.
— На ле-галь-ном положении, — говорит Дунечка, — я долго работать не буду, это я временно.
— Да, только бы освободиться от Банка! — постоянно говорит мать.
— Нужно терпеть, — учит Софья Александровна, — наша вся жизнь есть долг и терпение.
Про это вот больше и спорят все: ни мать, ни Дунечка не хотят терпеть, им только бы как-нибудь освободиться от Банка, а Курымушка мало-помалу складывает себе историю про Софью Александровну и про Дунечку.
Было, представляется Курымушке, три жениха у Софьи Александровны, два были хорошие и один Бешеный. Софья Александровна посоветовалась со старцем, ей было велено идти за хороших. Но это Курымушка хорошо понимал, — если велят по-хорошему, то хочется идти по-плохому: Софья Александровна вышла за Бешеного. И началась беда: Бешеный барин раз все стулья поломал, и как ругается! Его слышно здесь на балконе. А еще Бешеный барин — и это хуже всего — был а-те-ист. Что это значит, Курымушка думал-думал и не понял. Раз Софья Александровна убежала из дому сюда и не знала, как быть ей дальше, но вспомнила старца, написала ему. «Сама виновата, — ответил старей, — не нужно было выходить, а если вышла, терпи до конца и спасешься». С этого дня Софья Александровна стала все терпеть и во всем слушаться старца.
Все это шепотком от прислуги, — это все большие тайны, а про хозяйство начинают всегда громко:
— У вас почем стала рожь?
— По восемнадцать копен.
— Хорошо! Вязь большая?
— Не обхватишь снопища.
— Как все у вас ладно выходит!
— Я во всех даже мелочах со старцем советуюсь. А как вы с травой на валах? Бабы тащут у вас?
— Мешками тащут, ничего не поделаешь, за ними ведь не угонишься.
— Я научу вас, как нужно.
— Нуте-с?..
— Я незаметно к бабам подхожу, кустами, и будто их не вижу, а сама покажусь, когда им уж бежать нельзя, тогда они непременно залягут в канаву. Я сяду будто отдохнуть на край канавы, над самыми бабами, и дожидаюсь, пока они встанут; они думают меня перележать, а я думаю их пересидеть, но я непременно их пересижу, зашевелятся и сами отдают мне мешки. Выходит двойное наказание — и время потеряли, и мешки.
«Вот какой хитрый старец, — думает Курымушка, — и почему это мама борется с Банком сама и не хочет слушаться старца?»
Другая история была про Дунечку. Но это еще много чуднее, чем про Софью Александровну. В большом купеческом доме на маминой родине у одного из ее братьев был мальчик по прозвищу Га-ри-баль-ди. Когда он стал довольно большим, то поднял в этом доме восстание, и с ним ушла его сестра Дунечка. Куда они делись, нельзя было узнать; мать говорила: «Все покрыто мраком неизвестности». Мать признавалась, что сама в этом плохо понимает, почему-то они ненавидят царя, такого хорошего, освободителя крестьян.
— Вы-то как думаете про это, Софья Александровна?
— Я тоже в этом мало понимаю, но думаю — из них могут потом выйти очень хорошие, умные люди; у них это от гордости, хотят все сами. А что сами! Вот я хотела сама выйти замуж, и что вышло! Нужно терпеть! Потом они тоже смирятся и будут умные люди.
— Умные, что и говорить, в нашем роду глупых не было, — он был умница во всем городе и по-ра-жал всех. Дунечка за ним, как за богом, шла, как вы теперь за старцем идете: бес-по-во-рот-но! Он был в тюрьме, и это у них за святость считается, страдал за народ, как Христос.
— Не говорите так, Мария Ивановна!
— Нет, отчего же, мне кажется, Христос был очень хороший.
— Да разве так можно?
— Господи, я же знала его гимназистом, какой он был хороший, как заступался при малейшей обиде за прислугу, за бедных родственников, за больную собаку, птицу, замерзающую на улице, увидит и приголубит. И Дунечка пошла за ним, они были в Париже, учились, но, должно быть, не-ле-галь-но.
— Не-ле-галь-но, — твердит Курымушка.
— Что ты там шипишь? — спрашивает его мать. — Не уснул еще? Подожди, не спи, скоро ужинать.
И опять Софье Александровне:
— Он остался там, она приехала по его приказу работать на ле-галь-ном положении, пока...
— А потом?
— У них про-грам-ма: жить без царя.
— А потом?
— Я не знаю, но у них потом выходит как-то очень хорошо, я сама не понимаю, как люди вдруг переделаются, если не будет царя. Но она такая милая и такая хорошенькая, хотя и ми-ниа-тюр-ная, кулачки свои крошечные подымет: царь такой большой, она такая маленькая, мне это нравится.
— Очень миленькая! А вы бычка своего продали?
— Симментала? Нет еще.
— Вы променяйте мне его на телушку, я давно мечтаю о симментальском бычке.
Курымушка все это слушал и по-своему понимал. И когда Дунечка прочла ему свое любимое стихотворение:
Жандарм с усищами в аршин,
И рядом с ним какой-то бледный,
Полуиссохший господин,
Курымушка понял, что бледный господин и есть он, тот Самый Га-ри-баль-ди, и он Дунечке все равно как старец Софье Александровне; а у мамы только Банк и она сама. Но Почему же, бывает, мама иногда так просияет, будто всем солнце взошло, а Софья Александровна и Дунечка так не могут? «Работать на ле-галь-ном положении хуже», — думал Курымушка.
ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ
Задавались вечера, и это называлось «гости», когда и Дунечка была, и Софья Александровна, и еще другие соседи — все больше женщины. Тогда ужин оттягивается надолго и Курымушку развлекают, чтобы не уснул. Кто-то поет ему песенку:
Ах ты, воля, моя воля, Золотая ты моя. Воля — сокол поднебесный, Воля — светлая заря.
Матери песенка эта очень нравится, она говорит:
— Какая все-таки светлая эпоха была. Я венчалась как раз в шестьдесят первом году.