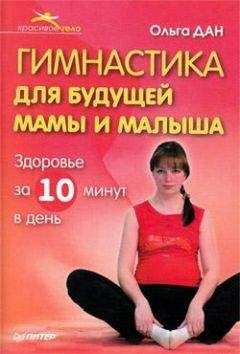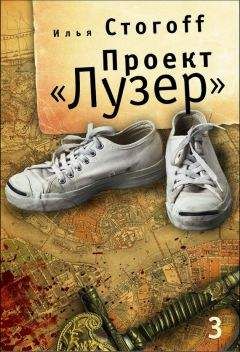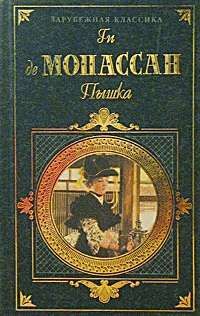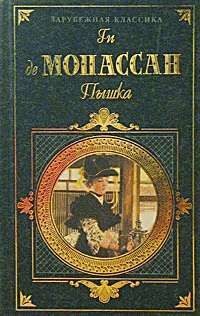Анатолий Ким - Белка
Итак, что же лежало в основе столь воинственной ее добродетели и непримиримой ненависти к женской жизни дочери, осуществившейся не по правилам и понятиям мамы? Я прошу вас, любимая, извинить меня за мои вольности, но уже стоит глубокая ночь, третий час, время, когда мне особенно нехорошо, и я без всяких попыток смягчения, ретуширования, сглаживания острых углов думою о проклятых силах, мешающих осуществлению подлинной любви. Я давно уже не сплю по ночам, чтобы думать о вас и чтобы не видеть вас во сне, в котором происходит всегда одно и то же: бесконечные мои попытки объясниться в любви, и всегда что-нибудь мешает мне сделать это...
Я не сплю по ночам для бесед с вами и могу это делать с того времени, как стал понимать, что вся моя дневная деятельность, то бишь усердная видимость деятельности, это и есть, оказывается, сон, дьявольский блеф бытия, и мне оставалось лишь приспособить к автоматизму подобного времяпровождения физиологический акт сна. Я стал спать на работе, научившись при этом не закрывать глаз, не храпеть и не принимать горизонтального положения, - стал спать на ходу, и никто до сих пор ничего не замечал за мною. А ночью я вновь у ваших ног и могу говорить вам все, что заблагорассудится, выкладывать все, что знаю, не опасаясь быть непонятым, осмеянным или выданным, ибо мои вольные речи никогда не коснутся ваших ушей. Конечно, мне жаль, что мои умные мысли и головокружительные перевоплощения так и останутся недоступными для вас, но я вас настолько люблю, что готов всю жизнь служить одному звуку вашего имени, как самая преданная собака служит хозяину.
Но вернемся к Серафиме Григорьевне. В добрые еще времена она неоднократно говорила мне: "Будь, Митенька, порядочным человеком, это прежде всего, и тогда у тебя все будет в жизни хорошо". Меня так и подмывало спросить, обстоит ли все хорошо у нее самой в жизни, - в том, что Серафима Григорьевна порядочный человек, не могло быть никакого сомнения. Но я не осмеливался спросить - хотя и видел, что не все у нее могло сойти за "хорошее".
Я имел возможность пристально наблюдать за жизнью этого широко распространенного оборотня, нашей мирной курочки-рябы, и составить себе представление о религиозных воззрениях квохчущей клуши. Могу со всей основательностью беспристрастного наблюдателя утверждать, что они тяготеют к древним видам шаманизма. Я видел своими глазами, как эта полная, рыхловатая, опрятная женщина водила ложкой в тазу с кипящим вареньем, вызывая духа покровителя дома, который должен был укрепить ее пошатнувшуюся веру. И из тоненькой струйки керосиновой копоти, скользнувшей по боку медного тазика, выросло, словно дерево, высокое существо неопределенного вида. Призрак-дух, вызванный истовым камланием Серафимы Григорьевны, подмигнул ей, обещая полный порядок, но Борис Егорович, нашедший под старость лет какую-то огненную женщину в Москве, по-прежнему редко бывал дома, а если и приезжал, то, грозно хмуря свои лохматые каштановые брови с проседью, ни с кем не общался, ел свое, привезенное в портфеле, и рано утром уходил к электричке, так и не молвив словечка.
Серафима Григорьевна отбросила прочь предмет для вызывания духа серебряную большую ложку с костяной ручкой и принялась жаловаться своему духу-покровителю. Тот напоминал ей, что никогда в жизни она не выругалась плохим словом, не носила юбок выше колен, также не глазела в доме отдыха на чужих мужиков, а усердно вязала пуховый пуловер для дочери, никому, кроме врача, не показывала своих грудей, не подавала из ложной жалости милостыню наглым цыганкам в электричках, таскающим на руках - для вящего сочувствия замурзанных младенцев... Словом, перечень ее добродетелей рос, Серафима Григорьевна сама это видела и постепенно успокаивалась: ее дух-покровитель, благосклонно кивая головою, под конец тихо возносился к потолку и растворялся в кухонном воздухе, где-то меж развешанных на веревке бледно-голубых бюстгальтеров восьмого размера.
Я был вытурен ею из дома самым бесцеремонным образом, причем сделала она это в отсутствие Лилианы, когда та ушла в баню, и Серафима обошлась на прощанье довольно грубо со мной. Но, честное слово, я и из смертного мига, вскрывающего истину каждого события жизни, мог бы подтвердить то, что и всегда говорил раньше: я любил ее, относился почтительно к этой несчастной клуше. О, воинствующие ругатели мещанского уюта, богемолюбивые ниспровергатели быта, энтузиасты двадцатых годов и хиппари шестидесятых, - если бы вы знали, как мне после сиротства, многих лет детдомовского полуказарменного быта нравилось бывать на чистенькой кухне Серафимы! С каким восторгом я смотрел на зарождение и завершение грандиозного пирога с клубникой, слушал произносимые вслух стратегические планы атаки на созревающие помидоры, - им надлежало >в скором времени оказаться в стеклянной тюрьме, залитыми душистым маринадом и закрытыми сверкающей консервной крышкой. Завороженно я внимал легендам о царском варенье из зеленого крыжовника, который варили, удалив всю внутренность из каждой ягодки.
Митин убийца, с осклабистою улыбкою кабанчик, некто Игнатий Артюшкин, почти всю свою жизнь служил только по разным охранам. Артюшкин Игнатий однажды стал знаменит тем, что, находясь на излечении в Первой Градской больнице, был пойман нянечкою на месте преступления, то есть в уборной, где он красным карандашиком изображал на стене некий плакат в сортирном жанре. На крик нянечкин сбежались больные, врачи, и тогда Игнатий, имевший всегда и только квалификацию стража, выхватил из воображаемой кобуры воображаемый пистолет, замахнулся на нянечку и принялся делать судорожные жесты, демонстрирующие то, как бы он стал дубасить рукояткою пистолета по седой голове старухи. Пачкуна Артюшкина выписали раньше времени, что намечал он провести на больничных харчах.
Он поехал из больницы не домой, в свою холостяцкую берлогу, а к куме, постельной подруге, она как раз купила полведра коровьего вымени, быстренько нажарила полную сковороду еды.
Зашел сосед по квартире, некто Тюбиков, человек, видимый только спереди, а сбоку совершенно незримый, плоский, как зеркальная фольга. Но белая водка из рюмки, которую налила расщедрившаяся кума и Тюбикову, совершенно бесследно исчезла за его фасадом, когда он вплеснул жидкость в дыру разверстого рта. Желая закурить после рюмки, Тюбиков направился к себе в комнату за папиросами, повернулся боком к честной компании - и мгновенно пропал из виду.
В этот же день к вечеру он возник на пути идущей через железнодоржный переходный мост женщины средних лет, Ирины Федоровны Пятичасовой, мнительной вдовицы, у которой в кармане жакета под плащом, в кошельке, лежала полученная зарплата, и она опасливо покосилась на проходившего мимо мужчину, но к великому удивлению никого рядом не увидела, хлопнула себя по лбу и рассмеялась, но затем все же, для самопроверки, оглянулась и увидела печального человека, стоявшего позади нее шагах в четырех, который, повернувшись назад, пристально смотрел на нее.
Вдовица вскрикнула не своим голосом и неуклюжими скачками располневшей зайчихи понеслась по гулкому настилу переходного моста и впереди, за краем настила, увидела шляпу и голову поднимавшегося по лестнице гражданина, затем и плечи его показались, и весь корпус, на котором он смиренно влачил увесистый дачный рюкзак. Как к родному кинулась Ирина Федоровна к человеку в шляпе и рюкзаке, тот не сразу понял, в чем дело, однако с готовностью раскрыл свои объятия и, оказавшись, несмотря на прозаический вид, одновременно человеком веселым и пылким, крепко прижал к себе мягонькое, ладное тело Ирины Федоровны. Та объяснила, наконец, в чем дело, но когда двое на мосту оглянулись туда, куда указывал трепещущий перст вдовицы, там никого не оказалось, длинный мост был совершенно безлюден, а внизу, на перехлестах сверкающих рельсов и на замасленных шпалах, не лежало упавшего сверху человеческого тела таинственный мужчина, о котором Ирина Федоровна, заикаясь, поведала дачнику, бесследно исчез, или его не было вовсе, как подумал дачник, продолжая все настойчивее стискивать вдову.
Так они познакомились на переходном мосту вокзала, и через год у них уже был ребенок, мальчик, названный Арсением, и у него зубки прорезались на четвертый день после рождения, в полгода он научился играть в шахматы, не умея еще сидеть, и к двум годам удивил весь мир, тайком сочинив симфонический концерт "Утро в детском саду", фрагменты которого впервые исполнил на расстроенном пианино перед нянечкой и своими малолетними коллегами по младшей группе.
Слава о необыкновенном вундеркинде росла год от года, он выкидывал все новые номера, приводя в восторг папу, научного работника, и пугая маму, художницу по тканям, и все эти годы, все это время, когда другие люди знакомились, сходились, строили свое человеческое счастье, Лилиана, верная "подруга гения", хранила память о нем, хотя успела узнать от самого Мити Акутина незадолго до его гибели о существовании некой девочки с флейтой.