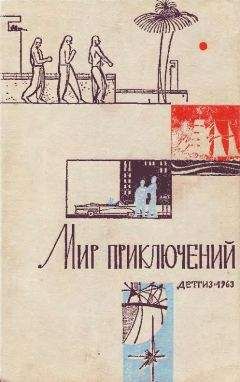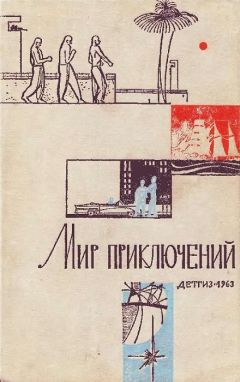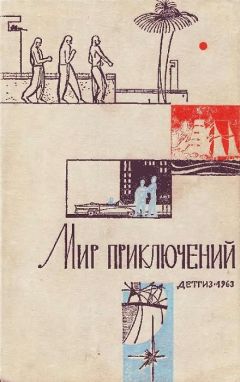Борис Привалов - Петрушка — душа скоморошья
Петруха клал под язык пищик-манок, пищал так громко и пронзительно, что в погребную крышку всовывалась голова стражника.
— Говоришь ты гоже, — одобрил Кострюк. — Ишь, манок-то как приспособил! Другие-то просто голос меняют, а ты с писком… Так и надо. Чтоб, если кто раз услышит, — уже не забыл.
— Я плотник, по всем делам охотник! — кричала кукла Скоморох.
— Вот тебе ещё присказка, — вспомнил Ерёма, — может, сгодится:
Одари, боярин, скоморошников,
Скоморошина наша ни рубль, ни полтина,
А всего пол-алтына!
— Нужно тебе сделать Цыгана, Лошадь и Собаку, — решил Кострюк. — Без них какой же ты кукольник…
Вся яма занималась Петрухиными куклами. Наскребли глину со стены, отыскали лоскутьев, даже краски раздобыли с базара.
— Скоморох твой, — говорил Кострюк, — задира и зубоскал, плут, проныра. Себя обманывать не даёт. Про всех всё знает. Вот смекай, как он каждый раз себя вести должен.
— Мы, помню, одно время с личинами работали, — сказал Ерёма. — Маски у нас были разные — купчина, цыган, царь вавилонский. Каждый раз нужно было про себя забывать, помнить, что ты купчина, либо царь… Так и в кукольной комедии помни, Петрушка, кто ты есть. Скоморох у тебя свой голос имеет. Стражник или там поп тоже должны каждый своим голосом разговаривать.
Под вечер, когда в яму спускалась такая темень, что хоть глаз выколи, беседа скучнела, сосед словно исчезал во мраке, каждый оставался в одиночестве, наедине со своими думами.
Но было у сидящих в земляной норе людей одно общее желание — песня. Она лежала у каждого на сердце; казалось, выпусти её на волю — и горе станет меньше, думы радостнее. Да не вырваться песне на свободу, если запевалы нет. Эх, нашёлся бы запевала, а подголосков хватит!
Именно в эти мгновения, когда молчания никто не смел нарушить, а песня уже мешала дышать, рвалась из горла, Петруха запевал высоким тенорком:
Высота ли, высота поднебесная,
— Глубота, глубота океан-море,
Широко раздолье по всей земле,
Глубоки омуты днепровские…
Двое-трое, те кто посмелее да поувереннее, пристраивались к нему сразу, затем подхватывало ещё несколько человек. Люди, зажатые со всех сторон глиной да землёй, пели о широте родных просторов, и хор их был так могуч, что, казалось, даже мокрые стены ямы в эти мгновения раздвигались.
Стражники откидывали крышку в потолке. Может, им хотелось послушать песню, а может, они боялись: не дашь звуку выхода — он и всю с подклетью избу на воздух поднимет…
— Надо Петрухе юбку сделать, — сказал как-то раз Ерёма. — Было мне ночью видение, что нам нынче беспременно удастся с базара обруч от бочки принести… Верна примета: сивая лошадь гуляла по небу, звёзды ела…
И хотя обруч от бочки раздобыли только на следующий день, когда пошли в связке Кострюк с Ерёмой, но тем не менее Ерёма хвалился целый день, что его примета оправдалась.
Юбка и обруч для кукольника — это, после кукол, самое главное. Надевает кукольник поверх своей одежды мешок-юбку, подпоясывается покрепче. «Юбка» поднимается вверх и закрепляется на обруче. Если посмотреть на такого человека издали, можно его за вазу принять. Только у вазы — две ноги. Да в материи дырки проделаны — для глаз. Но как же руки освободить? Они для кукол нужны. А кто ж тогда будет обруч держать?
Кукольники выход нашли: к поясу скомороха две палки-распорки прикрепляются — они-то и держат обруч над головой. А обруч держит юбку. Руки свободны. И вот уже над краем ширмы появилась одна кукла, другая…
У Петрухи не сразу всё ладно получалось. То обруч кособочился, то палки-распорки соскакивали, то рукава за что-нибудь зацеплялись, и приходилось сооружение строить заново.
Но к вечеру, с помощью скоморохов, он научился быстро всё собирать и разбирать.
— Завтра пойдём в связке, — сказал Кострюк, — ты представлять будешь.
— Как же так? Ведь мы ж оба будем к цепи прикованы? — удивился Петруха.
— Так руки-то у тебя свободны! — засмеялся Ерёма. — Да и я пособлю!
Стражники уважали скоморохов — ведь больше, чем Кострюк с Ерёмой, никто на базаре не зарабатывал. Значит, и стражникам доход. А кто больше денег приносил, тот и ценился дороже.
— Весёлые люди, бесовское отродье! — довольно потирая руки, говорили стражники. — С ними трезвый не будешь — всегда алтын в кармане!
Предложение Кострюка выпустить с ним в связке Петруху-кукольника вызвало одобрение стражников.
— Половина сбора нам, — сразу сказали они. — Иначе не видать вам завтра света белого.
…Петруха впервые за неделю вышел на волю.
Пришла оттепель, весело пели капли, после полумрака ямы всё казалось ярким, сверкающим, ослепляющим. От свежего воздуха закружилась голова — будто ковш браги выпил. Забылось даже, что от правой ноги тянется цепь, к другому концу которой прикован Кострюк.
У старого скомороха лапти в красный цвет окрашены, онучи белые с синей каймой, на голове — колпак, из лыка сплетённый. Заиграл Кострюк на дуде и начал бить в привязанный к локтю бубен.
— Эй, парень, — толкнул Петруху стражник, — хватит глаза пялить, ещё даже на чарку не заработали!
Второй стражник радостно произнёс:
— Эвон, народишко-то уже зашевелился! Приметил скоморохов!
— Глянь-ка! Лапоть на голове у дударя, — послышался звонкий, радостно-удивлённый голос.
— Потеха начинается! — гаркнул кто-то.
— Петрушка, не зевай! — сказал Кострюк и подмигнул одобряюще. — Ну-ка, постарайся!
Обруч и палки Петруха держал в одной руке, в другой — платок с тремя куклами. Юбка была заткнута за пояс.
Кострюк с одобрением наблюдал, как споро парнишка справлялся с хитрым своим хозяйством.
Вот уже зашагал кукольник по базару, и все заторопились к нему навстречу — давно в Острожце не видели кукольной потехи.
Изменчивы симпатии толпы. Только что слушали со вниманием забредшего на базар гусляра — калику перехожего, а теперь оставили старика в одиночестве и метнулись навстречу новой забаве.
Кострюк перестал играть и сквозь базарный шум услышал громкий, дребезжащий голос гусляра.
Гусляр продолжал петь — не обрывать же на полслове былину о славном богатыре Добрыне Никитиче:
Говорит Владимир стольно-киевский:
«Ах ты гой еси, удалой скоморошина!
Выходи из-за печки, из запечинки,
Садись-ко с нами за дубов стол…»
Петруха услышал былину, сквозь прорези в материи разглядел гусляра и рванулся к нему.
— Ты что?! — воскликнул едва сумевший удержаться на ногах Кострюк.
Петруха, ощутив рывок цепи, вспомнил, что он в связке, сказал Кострюку смущённо:
— Забылся… не привычен к цепи ещё…
— Куда ты метнулся?
— Да вот, гусляра приметил… Шляпа у него знакомая больно.
Кострюк увидел лежащую у ног гусляра широкополую заморскую шляпу.
Петруха, к сожалению собравшихся, снял обруч, опустил юбку, передал обруч, палки и свёрток с куклами Кострюку.
— Это ничего… так нужно… — сказал Кострюк обеспокоенным стражникам, хотя сам и не понимал, что задумал парень.
Петруха и Кострюк подошли к певцу. Старик унял гусли — положил на струны сухую длиннопалую ладонь.
После приветствий Петруха сказал:
— Шляпу эту заморскую я знаю давно. Ни с одной не спутаю.
— А может, путаешь? — протянул ему шляпу старик.
Толпа окружила гусляра и скоморохов. Стражники с подозрением смотрели на происходящее.
Петруха взял шляпу, показал её зрителям:
— Пустая?
— Как моя! — закричал долговязый парень, размахивая своей кургузой шапчонкой.
— А теперь? — Петруха огляделся по сторонам, потом протянул руку к жующему калач мальчишке, вынул калач из пальцев испуганного малыша и бросил калач в шляпу. — Лады-лады, ой люли! Что есть в шляпа? — подражая Греку, спросил Петруха.
— Пустая, как моя! — восторженно крикнул долговязый.
— Давай-ка теперь твою шапку! — сказал Петруха.
Парень кинул шапку. Петруха поймал её и положил в заморскую шляпу.
— Пустая? — показывая шляпу зрителям, спросил их Петруха.
— Да-а… — растерянно произнёс стражник. — Дело нечисто…
Петруха шутя потянулся к женщине-нищенке, которая держала на руках младенца.
— Бросить его в шляпу? — спросил он зрителей.
— Не дам! — крикнула нищенка и бросилась, испуганно озираясь, прочь.
Толпа засмеялась.
— Гляди-ка, по-настоящему забоялась!
— Не люблю я этого, — мрачно сказал один из стражников. — Тут раз показывали всякие фокусы, да потом у меня бердыш пропал! Эй, парень, хватит чудеса показывать!
Малыш, у которого Петруха отобрал калач, вдруг громко заревел.
— Ты не плачь, — улыбнулся Петруха, — вот твой калач!