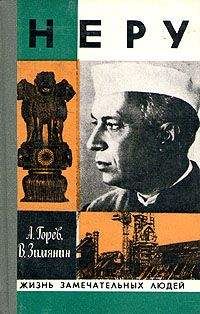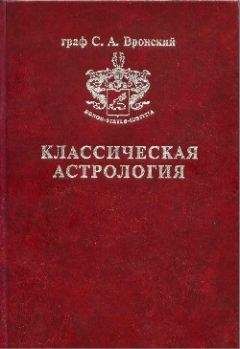Юрий Коринец - В белую ночь у костра
Дядя кашлянул несколько раз и начал:
Как-то ночью, в лесном окружении,
Где колеблются светляки,
Родилось дитя — Поражение,
Дочка Страха и дочь Тоски.
Длинноноса, черна, худа,
И глаза глядят в никуда:
Как у Страха, они велики
И бесцветны, как у Тоски.
Говорит сквозь слёзы Тоска: —
Жизнь и так у нас не сладка.
Не хватало нам Поражения!
Как нам выйти из положения? —
Дальний гром загремел в горах.
Задрожал над ребёнком Страх:
— Ни кола ни двора у нас,
Пробиваемся с корки на корку!
Вот Победа бы родилась!
В Поражении же что толку?
Недвижим туман над рекой.
Громко совы в лесу аукают.
Белый Страх с зелёной Тоской
В камышах ребёнка баюкают,
И никак их не различишь —
Бел туман да зелен камыш!
Говорит жене своей Страх:
— Не держи дитя на руках!
Положи его на дороге,
Дай бог ноги нам,
Дай бог ноги!
Утром иней земли коснулся —
Сиротой ребёнок проснулся.
Громко маму зовёт и плачет,
Не поймёт, что всё это значит!
Призадумалось Поражение,
Вдаль взглянуло без выражения:
— Я такого не ожидало! —
Посидело оно, порыдало,
Но что без толку горевать —
Надо родственников искать!
Погрозило вдаль кулачком
Да потопало босичком…
Так с тех пор оно ходит мрачное,
Ищет всюду отца и мать.
Как увидит где неудачников —
Так и кинется обнимать!
Если где-нибудь плач заслышит
Или где-то кого-то бьют, —
Поражение тут как тут,
У порога стоит, не дышит:
Мол, не вы ли мои родители?
Приютить меня не хотите ли?
Как заглянет куда в избу, —
Все надежды летят в трубу!
А посмотрит взглядом раскосым, —
Так любого оставит с носом!
Ну, изгонят все Поражение,
Никакого к нему уважения!
Много лет оно ищет родителей,
Мать свою да отца своего.
У Победы друзья — Победители,
Ум и Смелость его родители,
Пораженье — всегда одно!
Так и бродит оно по свету,
И нигде ему счастья нету!
— Ну как? — спросил дядя, окончив читать.
— Неплохо, — сказал я. — Только немножко старомодно. И вообще — не стихи, а басня…
— Почему старомодно! — обиделся дядя.
— Сейчас так не пишут! — сказал я. — Герои какие-то придуманные… Страх, Тоска… А потом, Поражение бывает и от усталости!
— Ну, это ты брось! — сказал дядя. — От какой там усталости! Главное, не трусить и не падать духом — вот о чём стихи! И есть тут ещё одна мысль: о том, что люди не любят признавать своё Поражение. Никто не хочет быть отцом Поражения! Всяк на другого сваливает или на обстоятельства. Все лезут в родственники к Победе! Вот о чём стихи. Ты просто не понял…
— Я понял! Только сейчас так не пишут. Стихи, наверное, написал какой-нибудь древний поэт. Кто их написал?
— Один человек, — нахмурился дядя.
— Опять один человек! Почему ты не скажешь — кто?
— Потому что он не был поэтом, — сказал дядя. — Да и фамилию я забыл…
Дядя замолчал и стал смотреть вдаль. Я тоже посмотрел вдаль.
Там, внизу, лохматился лес во все стороны до самого горизонта, на западе он был ограничен синими и белыми вершинами Хибин, а на северо-востоке выпуклой дымной полосой лежало море. Лес горбатился лысыми и кудрявыми сопками, между ними светились капли озёр, а прямо под нами бежала извилистая Нива, бежала в неслышном грохоте: там, внизу, пороги ревели и пенились, а отсюда они казались немыми и застывшими, как остановившиеся мгновения.
Мгновений этих было много, по ним мы должны были скоро поплыть на плоту, и я смотрел на них и думал: как мы по ним поплывём?
Чёртова дюжина
После того как дядя прочёл стихи о Поражении, мы ещё долго спускались с сопки, продираясь сквозь заросли, переходя вброд ручьи и перелезая через огромные поваленные деревья.
Мы шли полночи и полдня, а потом спали полдня и почти всю ночь; мы даже не ставили палатку, а сразу легли, разостлав палатку на земле, так мы устали, продираясь сквозь все эти заросли; лес был тут очень густой, заваленный буреломом, настоящее медвежье место! Порфирий специально привёл нас в это место, потому что здесь было много сухих елей, нужных нам для плота. Порфирий давно знал это место, это было прекрасное место, потому что река здесь была глубокая. Пороги начинались опять где-то ниже, а здесь их не было. Кроме того, под крутым берегом была небольшая бухточка, где удобно было спускать плот на воду. Здесь мы должны были построить лесную верфь, специальное устройство для постройки плота и спуска его на воду. Так что работы у нас было по горло. Но это была прекрасная работа! Весёлая работа, хотя и трудная. Не каждому в жизни приходилось строить верфь и плот и спускать этот плот на воду, а мне, как видите, приходилось.
Хотя вы этого ещё не видите — подождите, скоро увидите, я вам всё расскажу. Но рассказывать надо по порядку, поэтому потерпите. Всё надо делать по порядку, без порядка ничего не получится.
Дело в том, что не всякий сухостой годится в дело.
Нужны, во-первых, ели. Во-вторых, одинаковой толщины и прямые. И, в-третьих, не трухлявые внутри…
— Вот эту можно! — сказал Порфирий, смерив взглядом высокую ель.
Ель стояла у самой воды, уцепившись корнями за камни. Ствол дерева был покрыт высохшим мохом, свисавшим с коры белыми бородами, и полусогнутые ветви дерева, опущенные к земле, тоже были покрыты бородами, а сами ветви были чёрными, голыми, только кое-где на них торчала кисточками высохшая рыжая хвоя.
Я передал Порфирию пилу, и они с дядей стали пилить ствол, встав по обе его стороны, а я пошёл искать ещё сухостой.
Потому что нам нужен был ещё сухостой. Порфирий сказал, что для хорошего плота нам нужно двенадцать сухих елей. Самое меньшее! То есть дюжина.
Отойдя немного вверх по реке, я нашёл на берегу ещё две сухие ели, недалеко от воды.
Порфирий велел искать сухостой возле самой воды, чтобы не надо было таскать деревья издалека.
Река бежала здесь в густом лесу, в буреломе, а под буреломом громоздились гранитные камни, прикрытые мохом, и я то и дело проваливался в щели.
Попробуйте-ка вынести из такого бурелома двенадцать больших деревьев! Тринадцать нам уже не нужно, потому что это чёртова дюжина. У чертей в дюжине почему-то тринадцать единиц, а у нас? — у людей — двенадцать…
Хлоп! Я опять провалился в щель между камней, ушибся и ободрал до крови ногу. Зато я увидел ещё одну ель.
Может, черти и могут плыть на плоту, в котором тринадцать брёвен, а мы не можем. Потому что с нами может случиться какая-нибудь неприятность…
Ура! Ещё три сухие ели, тоже над водой, — вода подмыла им корни и они наклонились над самой водой.
С чертями на тринадцати брёвнах ничего не случится, потому что это, во-первых, чёртова дюжина, а во-вторых, тринадцать у чертей вообще счастливое число. А у нас — несчастливое. Это такая примета…
Чёрт возьми! Опять я наступил на мох и чуть не провалился в яму, полную воды!
Дядя, конечно, сказал, что это всё чепуха, потому что дядя в приметы не верил. А Порфирий верил.
Ещё одна сухая ель — итого восемь!
А я ещё не знал, любить мне тринадцатое число или же не любить, потому что я это число ещё не испытал, хотя мне и было тринадцать лет.
Девятая сухая ель! Но как болит нога!
Мне было тринадцать лет, но никаких особенных неприятностей у меня не было, наоборот: всё было прекрасно!
Я остановился и оглянулся вокруг: дальше идти не было смысла.
Здесь в Ниву вливался какой-то боковой приток, на том берегу притока лес кончался и буйно разрослись кусты можжевельника. Кое-где над кустами торчали кривые берёзки, но елей нигде не было видно. Я повернул назад.
— Девять елей тоже неплохо! — сказал я вслух.
Всё у меня было прекрасно, хотя мне и было ровно тринадцать лет. Но я ещё не знал, что это пока у меня было всё прекрасно, потом-то всё стало не прекрасно, и это «потом» наступило вскоре, когда мне всё ещё было тринадцать: именно в тринадцать лет у меня начались разные неприятности, начались сразу же, как только мы вернулись в Москву, но тогда, на реке Ниве, я ещё ничего об этом не знал. Когда-нибудь, в будущем, я вам об этом всё расскажу…