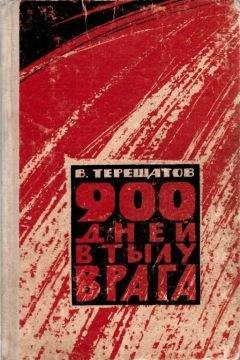Алексей Белянинов - Много дней впереди
- Да ну?.. - не поверил я.
- Точно...
- А кто такие руола... луора...
- Луораветланы... Луораветланы - так сами себя чукчи называют, догадался Кристеп, что я хочу спросить.
Мы рассматривали в этой книжке картинки, когда во дворе раздался сердитый бас Сольджута. Кристеп, как был, в рубашке, выскочил наружу.
Потом в сенях послышались голоса, отворилась дверь. Через высокий порог перешагнула мама.
- Ты что же так задерживаешься после школы? - начала она, не дав мне ничего сказать. - И не предупредил, что к товарищу пойдёшь... Я вернулась домой, сижу жду, жду, места себе не нахожу, а ты об этом и не думаешь!
- Ты разве сегодня не дежуришь? - спросил я. - Ты сама говорила утром...
Она как-то сбоку посмотрела на меня.
- Моё дежурство отменили. Собирайся, и пойдём. Уже поздно, тебе пора ложиться.
- Ты завтра за мной зайди, - сказал я Кристепу на прощание. - Я ждать буду.
Кристеп проводил нас до ворот, и мы с ней вдвоём пошли через площадь в темноте. Я часто сбивался с протоптанной тропинки, попадал в глубокий снег. Мама тогда останавливалась и поджидала меня.
Она молчала, я молчал. Так мы и дошли до нашего дома.
В окнах было темно.
Значит... значит, о н ещё не у нас сегодня вечером? Может быть, мама послушалась меня и его совсем у нас не будет, никогда?
Дома мама, по-прежнему не говоря ни слова, разделась и села на стул у стола. Я тоже разделся, сам повесил телогрейку на гвоздь и пристроился за маленьким своим столиком у окна. К маме я сидел спиной. Я не хотел сейчас видеть её. Но вдруг мне показалось, что она плачет. Да, плечи у неё вздрагивали, лицо она закрыла обеими руками, слёзы просачивались сквозь пальцы, пальцы были мокрые.
И мне стало страшно!.. Никогда, никогда, никогда я у неё слезинки не видел, а ведь нам бывало трудно в Москве - мы там жили в общежитии медицинского института. Ну и пусть плачет, сама виновата! Кто её просил? Но потом я её пожалел, сам чуть не заплакал. Лучше бы она злилась и кричала, как днём, что у меня нет сердца.
Подойти бы к ней... Но я остался сидеть и, снова отвернувшись, сказал маме:
- Фёдор Григорьевич так Фёдор Григорьевич.
Пусть, раз она так хочет. Только чтобы меня он не трогал, меня не касался. Лучше я буду один жить.
Мама слушала и продолжала плакать.
А я не понимал: чего же теперь всхлипывать - сказал же, что согласен.
4
В школу мама сходила.
Не знаю, о чём они говорили с Верой Петровной, только учительница сказала мне, когда начался первый урок:
- Ты, Савельев, поступил очень нехорошо. Ничто тебя оправдать не может, так и знай! Что же это получится, если каждый из нас станет драться, когда у него плохое настроение? Или я тоже начну вас бить, если вы не станете слушаться? А ведь вы часто не слушаетесь... Что тогда получится, Савельев? Кулаками никому и ничего не докажешь. Нужно уметь сдерживаться.
Я слушал её и сдерживался. Вера Петровна всегда так: если начнёт о чём-нибудь говорить, то говорит долго-долго. Одно и то же любит повторять несколько раз, - это для того, чтобы её слова лучше проникали в наше сознание. Ещё она требует, чтобы все её внимательно слушали, смотрели бы ей прямо в лицо, а не шарили глазами по сторонам.
- Ты слышишь меня, Савельев?
- Слышу, - ответил я.
- Хорошо, что слышишь, но только слушать - этого недостаточно, этого мало, - добавила она. - Тебе надо всерьёз подумать о своём поведении и улучшить его. Я была бы рада, если бы ты извинился перед Костей! Это доказало бы, что ты понял, что ты осознал свою ошибку.
Ну уж нет! Ещё чего!..
С Костей мы не разговаривали. Но и не дрались больше. Он не пришёл, когда я его вызвал: я напрасно ждал за сараем, напрасно мёрз. А через Кристепа он в тот же день мне передал, что не может драться - ему нельзя как председателю совета отряда... Не хочет - и не надо. Значит, я победил!.. А лучше бы честно признал, что боится.
Но что Костя!.. Не до Кости мне было.
О н стал жить у нас, переехал со всеми вещами. Одну большую медвежью шкуру повесили на стенку возле маминой тахты, а другую расстелили на полу. Мама жалела, что шкура на полу будет пачкаться и тереться, а он пообещал ещё одного медведя убить, когда понадобится. Ружьё его - двустволку повесили над тахтой, под самым потолком: я не мог до него дотянуться, даже когда подставлял стул, а на стул табуретку. И патроны спрятали в нижний ящик шкафа, а ящик заперли на ключ - нарочно врезали туда замок.
Не очень-то мне нравилось теперь возвращаться домой после школы. Зато утром я его мало видел. Он уходил на работу, когда я ещё спал или делал вид, что сплю. В пять часов он уже дома, а я - на уроках! Хорошо, что наш класс занимается во вторую смену. Боюсь, как бы не перевели в первую с третьей четверти, иногда так делают. Я к нему, когда мы всё же встречаемся, вообще стараюсь не обращаться, а если приходится, то не называю ни "дядя Федя", ни как-нибудь иначе.
Уроки я стал делать больше по вечерам, чтобы можно было сидеть за своим столиком и молчать, не оборачиваться к ним.
Мама - та даже удивляться начала, с чего это я сделался таким прилежным. Эх, сказать бы ей с чего!..
Однажды я вечером пришёл из школы, а они сидят и пьют чай. Мама встала, налила мне в тарелку супу с мясом и картошкой, нарезала хлеба. Потом уселась напротив и принялась расспрашивать: не дрался ли я опять с Костей, не поймал ли новую двойку, не ругала ли меня Вера Петровна. Я ел суп и отвечал ей "да", "нет", а подробно, как раньше, не рассказывал.
Пока я ел, Фёдор Григорьевич поднялся из-за стола и хотел пойти в сарайчик, принести дров, чтобы затопить печку. Уже по два раза приходится топить, вечером обязательно, иначе холодно в комнате по утрам: одеваешься, а зубы стучат.
Мама увидела, что он пошёл к двери, и не дала ему выйти - загородила дорогу.
- Ты куда раздетый? - сказала она строго, как мне иногда говорит. Сейчас же надень телогрейку, иначе я тебя никуда не выпущу!
Как она может его выпустить или не выпустить, когда он в десять раз сильнее её? Но Фёдор Григорьевич послушался - надел телогрейку, а мама поднялась на цыпочки и нахлобучила ему шапку. И только после этого дала пройти.
Он скоро вернулся с большой охапкой, грохнул швырок около печки и стал её растапливать. Пригодилась сухая кора, которую мы подобрали и посушили в духовке.
В печке загудело пламя, ярко светились оранжевым светом дырочки, что проделаны в чугунной дверце для тяги.
Маме нужно было уходить: сегодня она в самом деле дежурила в ночь.
- Перед сном, Женя, выпей молока, - сказала она. - Я оставлю на плите в кастрюле.
И она собралась выйти в сени: молоко у нас там хранится, в кладовке. Здесь оно зимой замёрзшее - твёрдые белые круги. Как растопишь один такой круг, получается целый литр. Мама сразу привозит двенадцать - пятнадцать кругов, чтобы хватило надолго.
Она уже пошла к двери, но теперь Фёдор Григорьевич стал перед ней.
- А ты?.. Ты куда? - спросил он. - Оденься...
- Так я же на минутку! - попробовала мама защищаться. - И не во двор, не в сарайчик, а только в кладовку...
- Всё равно!
Он сгрёб её в охапку, надел телогрейку. Под руку ему попалась моя шапка на гвозде, и он надвинул её маме на самый лоб.
- Вот теперь можешь, иди, пожалуйста, - сказал он и подтолкнул её к двери.
Балуются, как маленькие, честное слово!..
Позднее, уходя уже совсем, она мне сказала:
- Долго чтобы не читать, понятно?.. Федя, ты просто отбери у него в десять книгу.
- А мне сегодня нечего читать, - ответил я. - Буду с вечера делать уроки. Арифметику, русский и рисование...
- Какой изумительно прилежный мальчик! - сказала она.
- И прилежный! А ты лицо закутай как следует. Не знаешь, вечером всегда холоднее. Отмёрзнет нос, и будет он у тебя красный и распухнет.
Я позволил ей себя поцеловать, и они ушли. Фёдор Григорьевич провожал её до больницы, чтоб ей не страшно было в темноте. А я положил на своём столике задачник, раскрыл тетрадь и решил полежать на медвежьей шкуре, на полу, пока его нет. Надо же после уроков и отдохнуть, нельзя же всё время заниматься, заниматься, это даже вредно, сама Вера Петровна так говорит.
Я гладил тёмно-бурую шерсть и тихонько рычал... Был бы Кристеп, мы бы с ним поиграли в медведя и охотника, поборолись бы - кто кого, ведь иногда с медведем приходится схватываться врукопашную. Но Кристепа не было. Спиридон Иннокентьевич, как узнал про его двойку, велел заниматься поодиночке. Задачи мне не у кого было списывать - приходилось самому над ними сидеть, и на уроки у меня уходило больше времени.
Играть сейчас одному мне не хотелось, и я дёрнул напоследок шкуру и поднялся. Открыл дверцу в печке - не прогорели ли дрова. Нет, не прогорели... Но поленья стали гораздо тоньше, они потрескивали и сыпали золотистые искры.
Топить печку - хорошо, только если дрова не сырые. И пока Фёдор Григорьевич ходил провожать, я сбегал во двор, в сарайчик, и притащил несколько больших поленьев. За это время огонь немного приутих. А когда я натолкал туда свежих дров, он спрятался и притаился внизу. Полизал красную кору, полизал белую древесину и снова запрыгал, завыл: у-у-у-у-у... Поленья трещали и плакали - смола с них капала, и капли вспыхивали, когда попадали в огонь.