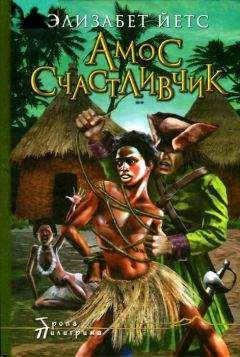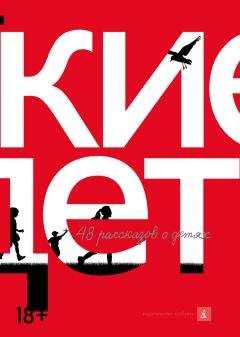Амос Оз - Сумхи
Эсти сказала:
— Может, ты все-таки хочешь спать в гостиной?
— Не имеет значения, — прошептал я.
— Не имеет значения — что?
— Ничего, просто так.
— Ладно. Как хочешь. Я сейчас ложусь и поворачиваюсь к стенке, чтобы ты смог устроиться на ночь.
Но я совсем не собирался никак устраиваться. Прямо в шортах и футболке я забрался под тонкое одеяло, только снял свои спортивные туфли и забросил их подальше под кровать.
— Все. Порядок, — сказал я.
— Если хочешь, расскажи мне о восстании жестокого Махди в Судане. То, что ты рассказывал Раанане и Нурит, ну, всем им, тогда, когда Шитрит заболел и у нас было два свободных урока.
— Но тогда ты не хотела слушать…
— Тогда — это не теперь, — сказала Эсти (и была права).
— Но если ты не слышала этот рассказ, то откуда ты знаешь, что я рассказывал о восстании Махди в Судане?
— Стало известно. И вообще, я все знаю.
— Все-все?
— Все о тебе. И даже то, о чем ты думаешь, что я этого не знаю.
— Есть вещи, которых ты не знаешь, и я ни за что на свете не расскажу тебе, — произнес я одним духом, стремительно повернувшись к Эсти спиной и уставившись в стену.
— Я знаю.
— Неправда.
— Да.
— Нет.
— Да.
— Ну, так скажи. Хочу посмотреть.
— Не скажу.
— Верный признак, что ты просто так говоришь, но не знаешь. Ты ничего не знаешь.
— Знаю. Еще как знаю!
— Ну, так сейчас же скажи, и, клянусь, что если ты угадаешь, то я тут же признаюсь, что это — правда.
— Ты не скажешь.
— Клянусь, что скажу!
— Ладно. Значит, так: ты любишь одну девочку из нашего класса…
— Чепуха! Чего вдруг?
— И ты написал про нее любовные стихи.
— Сумасшедшая, психическая! Прекрати!
— В черной записной книжке.
"Я украду термометр из стенной аптечки, — решил я в эту секунду. — Я разобью его, а ртуть соберу и на большой перемене подмешаю часть в какао Альдо, а часть — Гоэлю Гарманскому. Пусть подохнут. И то же самое я сделаю с Бар-Кохбой и Тарзаном Бамбергером. Пусть они все подохнут раз и навсегда!"
Эсти повторила:
— Маленькая черная записная книжка. Со стихами про любовь и про то, как ты в конце лета убежишь с этой девочкой в Гималайские горы и еще одну страну в Африке, я забыла название.
— Заткни глотку, Эсти, или я тут же на месте тебя задушу, и кончено.
— Ты ее больше не любишь?
— Но это все враки, Эсти, все враки и выдумки гнусных подлецов. Никакую девочку я не люблю.
— Хорошо, — сказала Эсти и вдруг потушила ночник рядом с кроватью. — Ладно, — добавила она в темноте. — Пусть будет по-твоему. А теперь — спать. Я тоже тебя не люблю.
…Потом, когда вся комната — письменный стол, стулья, шкаф, пол — была разлинована полосами света от уличного фонаря, проходившими сквозь жалюзи и освещавшими Эсти, сидевшую в своей пижаме со слонами на полу, возле моей кровати, мы еще немного поговорили. Шепотом. Я рассказал ей почти все. Про моего дядю Цемаха, на которого я до того похож, что могу, чего доброго, тоже сделаться спекулянтом. Про то, что это значит — встать и, бросив все, отправиться к истокам реки Замбези в земле Убанги-Шари. И про то, как чувствует себя человек, когда он покидает свой дом, свой квартал, свой город и в один день лишается и велосипеда, и железной дороги, и собаки, и родительского крова. И как я остался безо всего на свете, кроме точилки, которую нашел.
До поздней ночи, может, часов до одиннадцати я говорил с Эсти шепотом, а она молчаливо слушала. Но потом, когда я кончил рассказывать, Эсти, нарушив молчание, вдруг сказала:
— Хорошо. А теперь дай мне эту точилку.
— Возьми. Ты будешь меня любить?
— Нет. И, пожалуйста, помолчи.
— Так зачем же ты прикоснулась к моему колену?
— Может, помолчишь? Вечно он должен трещать и доставлять людям неприятности. Не говори ни слова.
— Ладно, — сказал я. И не мог не добавить: — Эсти.
Потом она сказала:
— Хватит. Не разговаривай. А теперь я ухожу, я буду спать на кушетке в гостиной. Вот так. И — ни слова. И завтра тоже. Спокойной ночи. А все-таки нет такой страны на земле — Убанги-Шари, но это замечательно, что ты нашел для нас такое место, где мы будем только вдвоем. До свидания, до завтра.
Шесть недель мы дружили: Эсти и я. Все эти дни были теплыми и голубыми, и даже ночи были темно-голубыми. Раздольное лето стояло в Иерусалиме, пока мы любили друг друга: я и Эсти. Наша любовь длилась до конца учебного года, даже чуть дольше, и в летние каникулы. Какими только именами ни называли нас в классе, какие только истории ни придумывали, какие только шутки ни изобретали! Но нам все было безразлично, пока мы любили друг друга. А потом все кончилось, и мы расстались.
Мне не хочется рассказывать, как расстались и почему. Я ведь уже сказал вначале, что время течет и все в мире изменяется. В сущности, это конец моего рассказа. На самом деле я мог бы все описать одной фразой: однажды мне в подарок привезли велосипед, взамен которого я получил железную дорогу, которую обменял на собаку, а вместо нее нашел точилку, которую подарил любимой. Но и это неверно, потому что любовь была все время, еще раньше, чем я отдал точилку, и прежде, чем начались перемены.
Почему кончилась любовь? Это вопрос. И вообще, можно задать множество вопросов: почему промчалось-пролетело то лето? И следующее лето? И еще, и еще? Почему заболел инженер Инбар? Почему все в мире меняется? И почему, если уж задавать вопросы, — почему теперь, когда я вырос, я все еще здесь, а не в горах Гималайских, не в земле Убанги-Шари?
Да, есть много вопросов, и среди них немало трудных. Но я закончил свой рассказ, а тот, у кого есть ответы, пусть встанет и скажет.
ПОСЛЕСЛОВИЕ. ВСЕ УЛЕГЛОСЬ
Чтение этой главы не обязательно. Я сам написал ее, потому что "так нужно".
В полночь, а может, и позже, в дом семейства Инбар прибежали мои папа с мамой, бледные и перепуганные.
Уже в половине десятого отец начал розыски. Сначала он отправился к тете Эдне. Затем, ничего не выяснив, он вернулся в наш квартал и безуспешно пытался узнать что-нибудь у Бар-Кохбы и у Эли Вайнгартена. В четверть одиннадцатого отец добрался до Гоэля Гарманского, и когда того подняли с постели и начали спрашивать, он стал утверждать, что ничего. не знает, после чего подозрения отца усилились, и он учинил Гоэлю строгий допрос, в ходе которого Гоэль несколько раз клялся, что собака, действительно, принадлежит ему и что у него даже есть разрешение от муниципалитета на право владения собакой. Отец оставил его в покое, но на прощанье сказал: "Мы с тобой еще поговорим при случае". И он продолжал свои поиски в соседних домах. Около полуночи он узнал наконец от мадам Соскиной, что она видела меня сидящим чуть ли не в слезах на ступеньках бакалейной лавки Бялига и что через полчаса, когда она выглянула из окна, я все еще сидел там, но "вдруг появился господин инженер Инбар и потащил куда-то ребенка, уговаривая его по дороге и давая ему всякие обещания".
Низким, тихим голосом, с побледневшим лицом, папа сказал:
— Вот оно, наше сокровище. Он спит в одежде, этот ненормальный ребенок. Вставай. И, пожалуйста, надень свитер, мама таскала его весь вечер до самой полночи, разыскивая тебя у соседей. Мы отправляемся прямо домой и все выяснения оставим на завтра. Вперед.
Потом он извинился перед инженером Инбаром и его женой, поблагодарил их и попросил передать спасибо их любезной дочери Эстер (когда я выходил, то мельком видел ее, издали, через открытую дверь гостиной; она ворочалась во сне из-за шума и разговоров, что-то шептала — наверное, что все случилось по ее вине и пусть меня не наказывают. Но никто, кроме меня, ничего не слышал. И я тоже не слышал).
Всю эту ночь я пролежал в своей кровати веселый, не смыкая глаз до самого рассвета. Я не спал и даже не хотел спать. Я видел, как исчезала луна в моем окне, как на востоке пробился первый луч света, как появились тени гор, а потом и сами горы. Когда же солнце зажгло искорки на водосточных трубах и оконных стеклах, я сказал почти в полный голос:
— Доброе утро, Эсти.
Начался новый день.
За завтраком отец обратился к маме:
— Ладно, пусть будет по-твоему. Пусть вырастет и будет Йоцмахом. Я готов молчать.
Мама ответила:
— С твоего позволения, моего брата зовут Цемах. Цемах, а не Йоцмах.
Папа сказал:
— Хорошо. Пусть будет так. По мне — так все в порядке.
В классе, на большой перемене, на доске появилась надпись:
В полночный час при свете луны Эсти и Сумхи влюблены.
Наш учитель, господин Шитрит, стер все тряпкой и, нисколько не сердясь, обратился к классу:
— Замри, все живое!
В тот же день, вернувшись с работы, в пять часов вечера отец один отправился в дом Гарманских. Он объяснял, оправдывался, открыто изложил свои взгляды, получил железную дорогу и решительным шагом направился к дому Кастельнуово. Там няня-армянка Луиза проводила его в библиотеку, полную дивных запахов, и отец сообщил госпоже Кастельнуово свое нелицеприятное мнение о случившемся, извинился, принял извинения, и, после взаимного обмена любезностями, получил велосипед.