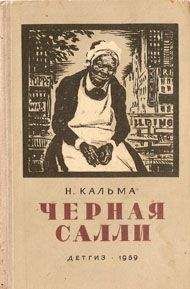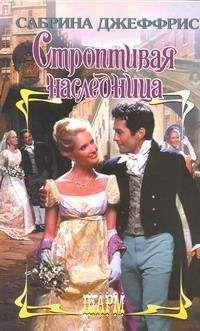Анна Кальма - Вернейские грачи
Правда, от этой мысли Хомеру ничуть не сделалось легче. Все такой же угнетенный, он вернулся к себе в вагон. В картишки, что ли, переброситься? Может, немного отвлечет… Он заглянул в купе, где Фэйни и Лори все еще любезничали с Алисой. Нет, этих сейчас не соблазнить картами. Но есть еще один игрок, рядом…
Хомер нерешительно дотронулся до руки Роя, Тот нехотя приоткрыл глаза.
— Что надо? — грубо спросил он.
— Может, сыграем в покер, Мэйсон? — предложил Хомер. Голос его звучал жалобно, заискивающе. — Или в бридж?..
— Идите вы, сэр, знаете куда… — И Рой громко, со всей определенностью сказал, куда именно должен идти его почтенный воспитатель.
* * *Тишина в долине.
Сон глаза смежил.
Ночи полог синий
Дом грачей укрыл…
Тишина, тишина… В доме грачей темно. Спит намаявшееся, наплакавшееся, измученное то горестными, то радостными волнениями Гнездо. Спят наши друзья: Витамин, и беленькая Сюзанна, и Ксавье, и неугомонный Жорж Челнок. В спальне малышей рядом с Лисси, вполглаза, как всегда, спит счастливая Засуха: она дождалась-таки Марселины. В бывшей «резиденции» американцев крепко спит семейство Кюньо — Жером, румяная Франсуаза и маленькая Полина, замучившая родителей вопросами: куда они уходили и почему так долго не было папы?
Только Этьенна нет в «резиденции». Вместе с Корасоном и Тореадором Этьенн стоит в пикете. Через два часа их сменят друзья с завода. Кто знает, что еще может прийти в голову полиции? На всякий случай у Гнезда решено поставить караул. Со двора, который то и дело освещается зарницами, изредка доносятся приглушенные голоса; пикетчик Рамо разговаривает с пикетчиком Корасоном.
А пикетчик Этьенн на минуту отлучился. «Только на одну минутку», — сказал он товарищам. Он подымается по лестнице в дом и на цыпочках идет по коридору.
Молнии прочерчивают небо за окнами. Вой Мутона, потом страшный треск. Виноградари бросают ракеты в горах, чтобы отвратить град или обратить тучи, грозящие градом, в воду. В наступившей мгновенной тишине доносится звон колокола — далекий, беспокойный, как голос путника, зовущего на помощь: это деревенские церкви тоже стараются умилостивить небо.
На подоконнике, у комнаты Матери, чуть виднеется темная фигура. В любимой позе — коленки к подбородку — сидит Клэр.
— Все еще не спишь? — спрашивает Этьенн.
Клэр качает головой, и темные пряди вдоль ее щек тоже покачиваются. Этьенн пододвигается к ней, нагибается. Ему во что бы то ни стало нужно заглянуть в лицо Клэр. Но молнии угасли. Вместо них раскатывается по горам орудийным выстрелом гром.
— Ты что? Ты не думай про это. Не надо.
— Да я не только про это. Я… про все… — с запинкой отвечает Клэр.
Этьенн некоторое время стоит молча. Чуть слышно в темноте их общее дыхание.
— Ты бы все-таки легла, — говорит он наконец. — У тебя так голова заболит.
Клэр шевелится на подоконнике.
— Я скоро лягу. Ты… иди. Ты не беспокойся. Это пройдет…
Этьенн вздыхает и все так же, на цыпочках, уходит вниз, к товарищам.
А Клэр прислоняется горячим затылком к стеклу. У нее и вправду болит голова. Очень болит. Она закрывает глаза. Как мучает ее этот крик, истошный, звенящий крик Жюжю: «Клэр! Берегись, Клэр!» Опять и опять повторяется крик, и Клэр чувствует, как опадает, слабеет прижавшееся к ней тело мальчика, и видит смертную бледность на круглом мальчишеском лице и потухающие, леденеющие зрачки. А рядом, близко — пергаментное, величавое лицо Фламара с сомкнутыми губами, над которыми стрелками белеют усы. Кровь на асфальте. Много крови. Точно пролили красные чернила…
И снова в памяти гробы, плывущие, как пурпурные ладьи, по темному человеческому потоку. Глухой рокот «Интернационала». Маленький гробик Жюжю и большой — Фламара. Цветы, цветы, цветы… Кюньо и слепой Сенье, которые говорят что-то у открытых могил. И руки, тысячи рук, поднятых, как в клятве…
Перед закрытыми глазами Клэр источенные временем камни. Зеленая плесень стены. Ржавые пятна на воротах. Наверное, точь-в-точь такие же ворота были в Бастилии тогда, четырнадцатого июля, в революцию. И так же, как теперь, требовал свободы узникам народ. Грохочет, взывает, приказывает многотысячный голос народа: «Свободу Берто!», «Свободу Перье!», «Свободу борцам за мир!»
Уже знают все, что суд постановил освободить арестованных за недостаточностью улик. Ничем не подтверждается обвинение в «заговоре».
Уже известно, что в Париже освобожден Пьер Дюртэн и Фонтенаку предложено подать в отставку. Знают, что и префект Ренар уволен и уже уехал из Вернея.
Тысячи людей стоят у городской тюрьмы — зловещего замка Синей Бороды. Вооруженная стража жмется к стенам, чувствует себя неуютно. И вот звон засовов, просвет в железных воротах, открываются тяжелые створки. И через порог тюрьмы переступает хрупкая женщина в плаще. А там, дальше, видны острые, точно закопченные скулы Поля Перье. Народ встречает их торжествующим кличем. Оба подняты над головами. Их бережно несут на руках, им бросают цветы, им кричат слова дружбы и привета. Победа! Победа! Большая, настоящая победа народа!
Шоферы города пригнали сюда свои такси, все они добиваются чести везти освобожденных. Но им достается только Поль Перье, он едет поскорее обрадовать свою больную мать. Руки народа доносят Марселину до старенького грузовика. Это «Последняя надежда», которую Корасон опять поставил на ноги. Недаром он твердил бедной больной машине: «Уж постарайся ради такого случая, не подведи нас!»
«Последняя надежда» становится подмостками оратора. Это Жером Кюньо. Сегодняшнее событие окрыляет его, он говорит вдохновенно. Он говорит о силе народного фронта, о могуществе сплоченного в единой воле народа, о том величии, которого может достигнуть французский народ.
В кузов тесно набиваются грачи, друзья, какие-то совсем незнакомые люди. Никто не желает садиться в кабину. Все хотят смотреть на Мать, все жаждут дотронуться до нее, убедиться, что это действительно она, живая и здоровая, только сильно осунувшаяся. Впрочем, у Матери больной вид, хоть она и старается улыбаться. Румяная Франсуаза горячо обнимает ее.
«Последняя надежда» трогается, с трудом подвигаясь среди человеческого моря. Старенький грузовик весь в цветах.
— Поезжай другой дорогой, — говорит, стоя на подножке, Этьенн своему другу Корасону.
— Ты же знаешь, другой дороги нет, — отвечает Корасон.
Этьенн хмурит брови.
«Последняя надежда» медленно, неотвратимо приближается к площади, посреди которой скорбная бронзовая женщина высоко вздымает своего ребенка. У ног женщины свежие могильные холмы, забросанные цветами. Мать вздрагивает. Она у борта машины. Миг — и она выпрыгнет, побежит туда, к этим холмам цветов. Но руки Жерома и грачей крепко держат ее, не пускают, и Марселина послушно поникает. Она не сводит глаз с могил: старый товарищ Фламар, черноглазый поэт Жюжю, вот как встречаете вы своих друзей в радостный день освобождения!
За спиной Клэр раскалывается на куски глухое антрацитовое небо. Белая, необычайной силы молния ударяет в горы. Проходит вечность в мертвой тишине. И вдруг дрожит, шатается от удара весь дом. Гром летит, как ядро, запущенное в скалы. И сразу ликующий грохот падающей воды. Кипят водопады и ручьи, ливень низвергается на горячую землю.
Скрипнула дверь. Стоя на пороге, Марселина вглядывается в темноту, окликает:
— Ты, Клэр? Тоже не спишь?
Клэр сползает с подоконника, прижимается к ней. Такой знакомый, такой милый запах Матери, ее волос, ее платья… Обнявшись, они входят в комнату Матери, тоже темную, теплую, из которой начисто изгнаны чужие тени. Теперь дождь стучит по крыше, как пишущая машинка. Парусом выгибается занавеска на окне.
Марселина ложится. У нее в ногах устраивается Клэр, свертывается клубком. Радость, горе — все так тесно переплелось в этой комнате, в них самих.
— Такое счастье, что вы опять здесь! — Клэр опускает тяжелую, горячую голову на колени Матери. — Мы с Жюжю так об этом мечтали…
Мать что-то шепчет в ответ.
— Жюжю… Мальчик… — слышится Клэр.
— Он был такой талантливый, правда? Он непременно стал бы большим поэтом… Правда?
— Да, — глухо говорит Мать. — Он был очень талантливый.
Клэр, наконец, может выговорить то, что ее так мучает:
— Он погиб за меня, Мама. Он заслонил меня. Это я виновата, что он погиб. Я, я…
Но Мать подымает с коленей ее голову, держит в руках, трогает губами лоб. Кажется, жар.
— Нет, Клэр, не думай так. Не изводи себя, — тихонько говорит она. — Фламар и Жюжю погибли за всех нас. За то, чтобы у всех было счастливое, поющее Завтра.
За окном шафрановая полоса прорезывает небо. Рассветает. Пахнет дождем и травой. Будет хороший, солнечный день.