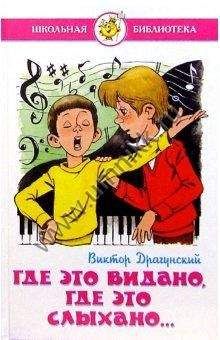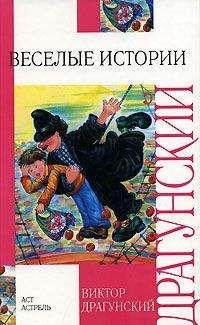Виктор Драгунский - Избранное. Повести и рассказы
Дома у себя такая она была веселая и простая, что даже странно было, почему ее в театре называют стервой…
— Вы мой поклонник? — сказала она.
Я сказал:
— Это какое-то не такое слово. Поклонник это ерунда…
Она поправилась:
— Я имею в виду, ну, знаете, — театральный поклонник! Болельщик… Вам нравится смотреть меня на сцене?
— Я всегда смотрю вас.
— Я знаю… Я всегда вас вижу. Ага, думаю, хроменький опять здесь.
У меня застучало в висках.
— Над этим не смеются.
Она отошла еще дальше.
— Байрон был хромым… Вы знаете, о ком я говорю?..
Я встал.
— «Прощай, прощай, и если навсегда, то навсегда прощай…»
— Ого, — сказала она, — смотри-ка — интеллектушко! Не уходите… Тем более что, по-моему, вы и еще кое-чем похожи на Байрона.
— Чем же?
Она сказала тихо и внятно:
— Байрон тоже был красивый… Вот что: после всех ваших безумств там в театре нам ничего не остается другого, нам нужно выпить на брудершафт.
Я подошел к ней. Мы переплели наши руки и выпили.
И она поцеловала меня, а я ее… Трудно про это вспоминать.
А в ту ночь на дворе стоял май, я был совсем молодой, и я шел по моей прекрасной Москве. И все-таки не было полного счастья во мне. Не знаю почему. Впрочем, к чему же притворяться, — знаю. Прекрасно знаю.
Я все это понял много дней спустя. Я как-то лежал у себя на кровати, в окно начинал входить рассвет, и я вдруг подумал, что тогда, в первый вечер, она боялась пойти со мной рядом. Потом я подумал: а почему же она в театре никогда не разговаривает со мной, виду не подает, что любит меня? Ведь она же не замужем.
И я любил, любил ее…
…А потом началась война. Я узнал, как бомбили Брест и Киев и как гибли тысячи людей. В это время начали бомбить и нас, Россию залило кровью, и я не находил себе места. Я пошел в военкомат, но меня не взяли, и это было хуже всякого оскорбления. Я был обречен на тыловое прозябание, я не находил себе места и метался по городу в поисках возможности попасть на фронт.
Были дни, когда казалось, что мне повезло, я сумел попасть в списки добровольцев кавалерийского корпуса, который формировался в Москве. У меня там был знакомый парнишка из осоавиахимовских активистов, он-то и подсунул мою фамилию эскадронному. Я возликовал, начал ходить на Хамовнический плац и ждал окончательного сформирования. Не хватало конского поголовья, лошадей проминали немногие ребята — старички этого дела, и все ждали: из армии обещали подкинуть конского брачку.
Я ходил на плац и стоял в сторонке у изгрызанной коновязи, все привыкли ко мне, и мечта моя, может быть, и исполнилась бы, но я сам себя разоблачил. Однажды, когда я только входил на плац, мимо пробежал какой-то старшина и крикнул, подтолкнув меня в спину:
— Седлай Громобоя, скачи на Плющиху к Никитченке, он тебе пакет даст. Духом! Аллюр — полевой карьер!!!
Не стоит об этом вспоминать. Ну его к черту! Они выгнали меня, едва увидели, как я вхожу в стойло. Этот сволочной Громобой за версту почуял, какой я кавалерист. Не успел я с уздечкой в руках войти к нему, как он тут же, без промедления, прижал меня своим костлявым боком к стенке и стал давить. В фиолетовом его глазу, в каждой кровавой прожилочке играла насмешка. Я застонал, пихая его кулаками, но он все нажимал и, наверно, раздавил бы меня, если бы кто-то не крикнул в это время настоящим, серьезным кавалерийским голосом:
— Пррринять!..
Тут он сразу отскочил как ошпаренный.
В общем, меня выгнали, и комэск Иванов химическим карандашом вычеркнул меня из жизни добровольного кавкорпуса.
Да, теперь это вроде смешно, а тогда я думал — совсем пропаду.
Вале я про все это не рассказывал, она ходила в последнее время какая-то притихшая, словно оглядывалась, словно искала своего места. Мы встречались с ней по-прежнему, только, может быть, не так часто, как в мае, и я крепко верил, что она любит меня. Эта вера держала меня на поверхности, а то бы давно бросился с Крымского моста в реку. Я тоже продолжал искать свое место в этой войне и однажды услышал, что набирают людей в ополчение, рыть окопы в Подмосковье. Я быстро все разведал, вцепился в глотку райкомщикам, и тут уж я своего не упустил, я своего добился, и меня зачислили. Нельзя рассказать, как я обрадовался, что хоть куда-нибудь годен. Я первый из театра уходил туда, ближе к войне, артисты еще только сколачивались в агитбригады или готовили репертуар для раненых бойцов, чтобы выступать перед ними в госпиталях. А в действующую армию, так сложилось, у нас пока никого не взяли.
И вот я зашел к Вале, она сидела в своей уборной и учила какую-то роль. Когда я вошел, она сказала:
— Среди бела дня, могут войти, уходите…
Я сказал:
— Валя, прощай! Я послезавтра ухожу в ополченье.
Я сказал ей «ты», поэтому она поверила сразу.
Она спросила:
— А как же… Я понял.
— Там хромота не мешает.
Тогда она медленно положила голову на гримировальный столик, прядь волос опустилась в пудру. Она плакала. И я почувствовал, что буду любить ее всегда. Я сказал ей, плачущей, придерживая плечом дверь:
— Завтра в девять приходи к аптеке. Проводи меня. Это прощание.
Она согласно качнула головой. Я вышел и отправился за разными справками, а весь следующий день мотался как проклятый, но к вечеру, к девяти, я был уже свободен, я накупил всякого барахла для закуски и стоял у темной аптеки и ждал. Напрасно, зря стоял.
…Так и не удалось мне спать в эту ночь, хотя всего меня ломило и здорово ныли побитые ноги. Не вышло мне тогда спать в открытом ветру и звездам сарае, хотя все кругом давно уже спали, потому что вставать надо было в пять утра.
9
Когда где-нибудь в доме отдыха целый день забиваешь козла или когда в выходной выедешь с ребятами за город и тоже целый день собираешь землянику, то потом, ночью, когда земляника уже давно съедена или костяшки убраны, все равно перед глазами долго еще мелькают красные ягодиночки или белые очочки, и никак от них не избавишься. Так было и сейчас. Что бы я ни делал, в голове моей мерно взлетали лопаты. Лопаты. Лопаты. Лопаты. Они погружались в мягкую глинистую почву, сочно чавкающую под режущим лезвием. Они отрывали комья, цепляющиеся за родной пласт, они несли на себе землю, эти непрерывно движущиеся лопаты, они качали землю в своих железных ладонях, баюкали ее или резали аккуратными ломтями. Лопаты шлепали по земле, били по ней, дробили ее, поглаживали, рубили и терзали, заравнивали и подскребывали ее каменистое чрево. Иногда одна лопата, которой орудовал стоящий глубоко внизу человек, взлетала кверху только до половины эскарпа, до приступочки в стене, оставленной для другого человека, тот подставлял другую свою лопату и ждал, пока нижняя передаст ему свой груз, после чего он взметал свою ношу еще выше, к третьему, и только тот выкидывал этот добытый трудом троих людей глиняный самородок на гребень сооружения. Лопаты, только лопаты, ничего, кроме лопат.
И мы держались за эти лопаты, это было наше единственное орудие и оружие, и все-таки, что там ни говори, а мы отрыли этими лопатами такие красивые, ровные и неприступные ни для какого танка рвы, что сердца наши наполнялись гордостью. Эти лопаты, любовь к ним и ненависть крепко сплотили нас, лопатных героев, в одну семью.
Постепенно, день за днем, я узнавал новых людей на трассе. Теперь я уже знал, что вон там, за леском, показывает небывалые рекорды казах Байсеитов — батыр с лицом лукавым и круглым, как сковорода. Ученые говорят, что нависающие веки У азиатов появились для защиты глаз от ветра и солнца. В таком случае Байсеитов защитился особенно надежно. Я его глаз никогда не видел. Две черточки, и все. Но им гордились, его знали все, и я гордился тоже, что знаю его. Я знал также, что слева от меня работает Геворкян, оператор из кино, знаток фольклора и филателист, а с ним рядом Ванька Фролов, голенастый пекарь, белый, словно непроявленный негатив. Вон частушечник, толстый, как сарделька, Сечкин, он любит показывать фотокарточку своих четырех ребят, похожих друг на дружку, точно капельки. Это вот Киселев, печатник, он хворый, грудь болит. Вот неугомонный шестидесятилетний бабник аптекарь Вейсман. Волосатый гигант Бибрик, задумчивый пожарник Хомяков. Масса ополченцев, такая безликая вначале, распалась для меня на сотни частичек — разных, по-разному интересных, построенных на свой манер каждая. Снег падает, вон его сколько, сугробы, а каждая снежинка откована по-особому — протри глаза!
В эти дни установилась славная, почти летняя погодка, здесь не было затемнения, налетов не было и бомбежек, не было патрулей, ночных дежурств, и все мы немного оздоровились, подзагорели, налились в мускулах. Работали горячо, на совесть, потому что отчаянно верили, что делаем самое главное, помогаем своими руками, своим личным трудом близкому делу победы. Так что настроение могло быть и ничего, но мешало, что не было радио и газет. Это очень нам мешало и срывало душевный настрой. Люди все ждали чего-то, томились, болели сердцем за близких и за все общее, и при встречах, когда шли на работу, или домой, или на перекуре, все спрашивали друг друга, не слыхал ли кто чего? А слыхали, конечно, часто и все больше плохое…