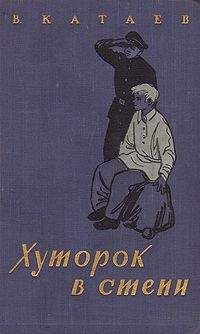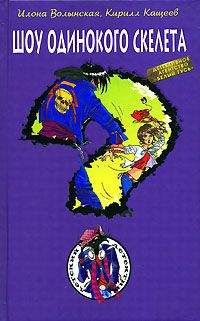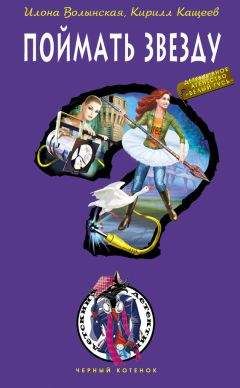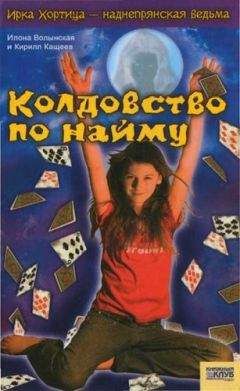Валентин Катаев - Хуторок в степи
Наконец он заставил себя встать, одеться и выйти в сад. Он увидел разостланные под деревьями мешки и рогожки с грудами черешни, множество знакомых и незнакомых людей, которые, стоя на лестничках и сидя на ветвях, снимали урожай; он увидел пасущихся лошадей и две неизвестно откуда взявшиеся платформы; и, наконец, он увидел тетю, которая шла к нему навстречу мелкой энергичной походкой и оживленно улыбалась.
– Ну, Василий Петрович, кажется, все устраивается как нельзя лучше!
– О чем вы говорите? – спросил он монотонным, ничего не выражающим голосом. На его лице появилась странная улыбка, поразившая тетю своей лунатической неподвижностью. – О чем вы говорите? – повторил он рассеянно.
– Ах, боже мой, о чем же я еще могу говорить, как не о нашем урожае, как не о наших черешнях! – весело ответила тетя.
Но, услышав слово "черешни", Василий Петрович вздрогнул как ужаленный.
– Нет, нет! Только ради бога! – простонал он. – Ради бога, ради бога, избавьте меня от этого… от этого мученья…
– Да вы меня выслушайте, – мягко сказала тетя.
– Не буду! Не хочу! Не желаю! Лучше носить в порту мешки! – раздраженно закричал Василий Петрович и без оглядки побежал в дом, нелепо размахивая руками и спотыкаясь.
– Выслушайте меня, по крайней мере! – крикнула ему вслед тетя.
Но он промолчал, не желая ничего понимать, думая, что все это, наверно, опять какие-то глупые фантазии и что они бесповоротно пропали.
Он опять лег на свою раскладушку лицом к стене, страстно желая лишь одного: чтобы его больше не трогали.
И тетя больше его не трогала, зная, что все равно это ни к чему не приведет. Все сделалось без участия Василия Петровича в течение двух дней.
Уезжали и приезжали платформы. Фыркали лошади. Скрипели корзины. Вечером, в степи горели костры, и оттуда вместе с дымком доносился вкусный запах кулеша и печеной картошки. Слышались песни. И во всем этом чувствовалось что-то бодрое, праздничное. Это и впрямь был какой-то праздник веселого, свободного труда.
Но ничего не замечал или, вернее, не хотел замечать Василий Петрович. Он испытывал мучительное, безвыходное состояние доверчивого человека, который вдруг увидел, что его все время грубо обманывали. Он понял, что обманут жизнью.
Оказывается, он все время жил в мире иллюзий. И самая опасная из них была та, что он считал себя свободной, независимо мыслящей личностью. А он в действительности, вместе со всеми своими прекрасными, возвышенными мыслями, вместе со своей божественно-чистой душой и благородным сердцем, со своей любовью к родине и народу, был не более чем рабом, таким же самым рабом, как миллионы других русских людей – рабов церкви, государства и так называемого общества.
Едва он сделал слабую попытку быть честным и независимым, как на него сразу обрушилось государство в лице попечителя учебного округа Смольянинова, а затем "общество" – в лице Файга, а когда он, для того чтобы сохранить свободу и независимость, решил жить "трудами своих рук" и зарабатывать свой хлеб "в поте лица", то оказалось, что и это тоже невозможно, потому что этого не желает мадам Стороженко.
Большую часть времени Василий Петрович лежал на раскладушке. Но теперь он уже не поворачивался лицом к стенке. Он лежал на спине, скрестив на груди руки, и неподвижно смотрел в потолок, где сияли зеленые отражения сада. Его челюсти были крепко стиснуты, и гневная морщина косо рассекала красивый, лепной лоб.
На третий день утром тетя негромко, но довольно решительно постучала в дверь его комнаты:
– Василий Петрович, на одну минуту.
Он вздрогнул, вскочил, сел на раскладушке:
– Что? Что вам угодно?
– Выйдите на террасу.
– Зачем?
– Есть важное дело.
– Прошу избавить меня от каких бы то ни было важных дел.
– Нет, я вас все-таки очень прошу.
В голосе тети Василий Петрович уловил какую-то новую, серьезную интонацию.
– Хорошо, – глухо сказал он, – я сейчас.
Он привел себя в порядок, надел сандалии, сполоснул лицо, причесал волосы мокрой щеткой и вышел на террасу, готовый ко всему самому неприятному и унизительному.
Но вместо судебного пристава, околоточного, нотариуса или чего-нибудь вроде этого он увидел довольно толстого, средних лет человека в парусиновом пиджаке, по-видимому мастерового, который, держа в зубах маленький кусочек сахару, пил чай из блюдца, поставленного на три пальца. По его красному, распаренному лицу, побитому оспой, струился пот, и, судя по той милой, дружеской улыбке, с которой на него смотрела тетя, это был очень хороший человек.
– Вот, пожалуйста, познакомьтесь, – сказала тетя. – Это Терентий Семенович Черноиваненко, с Ближних Мельниц, тот самый, у которого жил Петя и стоит наша мебель.
– В общем, родной брат Гаврика, дружка вашего Петьки, – сказал Терентий и, осторожно поставив блюдце на стол, протянул Василию Петровичу свою большую, тяжелую руку. – Рад с вами познакомиться. Много о вас наслышан.
– Вот как? – сказал Василий Петрович, присаживаясь к столу и принимая свою обычную "учительскую" позу, то есть закладывая ногу на ногу и покачивая в свободно откинутой руке пенсне на черном шнурке с шариком. – Нуте-с, нуте-с, очень любопытно узнать, что именно вы обо мне слышали, в каком, так сказать, роде?
– Да вот, как вы сначала не поладили с начальством из-за графа Толстого, а потом не поладили с Файгом из-за дурака Ближенского, – со вздохом сказал Терентий, – ну и так далее. Что ж, вы, конечно, поступили вполне правильно, и мы вас за это можем только уважать.
Василий Петрович насторожился.
– Кто это "мы"? – спросил он.
Терентий добродушно усмехнулся:
– Мы, Василий Петрович, – это, стало быть, простые рабочие люди. Ну народ, что ли…
Василий Петрович насторожился еще больше. В этих словах он явно почувствовал "политику". Он с тревогой посмотрел на тетю, так как все это, несомненно, была опять какая-то ее новая и, быть может, даже опасная фантазия. Но тут он вдруг заметил на столе стопочку бумажных денег – зеленых трешек, синих пятерок и розовых десяток, аккуратно разложенных и перевязанных нитками.
– Это что за деньги? – испуганно спросил он.
– Представьте себе, – со скромной улыбкой скрытого торжества сказала тетя, – урожай черешни реализован, а это наша выручка.
– Шестьсот пятьдесят восемь рубликов чистой прибыли! – сказал Терентий, потирая руки. – Так что вы теперь живете!
– Позвольте, – не веря своим глазам, воскликнул Василий Петрович, – как же все это произошло? А лошади? А платформы? А… как это?.. Франко-привоз, что ли?
– Будьте спокойны, – сказал Терентий, – у нас фирма солидная. Для хороших людей все можем достать: и лошадок, и платформы, и упаковку. На то мы, как говорится, – пролетарии. Всё в наших руках, Василий Петрович. Не так ли?
Хотя слово "пролетариат" и принадлежало к самым опасным словам, от которых пахло уже не просто политикой, а самой настоящей революцией, но оно было сказано Терентием так просто, так естественно, что Василий Петрович принял его как должное, без малейшего внутреннего сопротивления.
– Так, значит, все это устроили вы? – спросил он, надевая пенсне и глядя на Терентия повеселевшими глазами.
– Мы! – ответил Терентий с оттенком гордости и так же весело посмотрел на Василия Петровича.
– Наш спаситель! – сказала тетя.
Затем она весьма подробно и с большим юмором стала рассказывать, как происходила продажа черешни. Оказывается, черешню возили на платформах по всему городу и продавали в розницу, и она имела громадный успех: ее брали буквально нарасхват, иногда даже целыми корзинами, в особенности белую и розовую; черная шла немного похуже.
– И вообразите себе, – говорила тетя, морща нос и блестя глазами, – наш Павлик торговал лучше всех.
– Как? – нахмурился Василий Петрович. – Павлик торговал черешней?
– Конечно, – сказала тетя, – все торговали. Вы думаете, я не торговала? Я тоже торговала. Надела старую шляпку а-ля мадам Стороженко, села на козлы рядом с возчиком и торжественно ездила по всем улицам. Ну, а разве можно было удержать детей? Решительно все торговали: и Петя, и Мотя, и Марина, и маленький Женька.
– Позвольте… – строго сказал Василий Петрович. – Мои дети торговали на улицах города черешней? То есть я не вполне вас понимаю…
– Ах, боже мой, да очень просто: сидели на платформах, ездили и кричали: "Черешня! Черешня!" Ведь надо же было кому-нибудь кричать. Вы представляете, какое это было для них удовольствие! Но Павлик! Он меня буквально потряс. Он кричал лучше всех. Вы знаете, я никогда не думала… У него голос прямо как у Собинова. И такая артистическая манера, а главное, такое тонкое понимание розничного покупателя… Он отлично знал, с кого надо запрашивать, а кому уступать.
– Нет, это просто черт знает что! – пробормотал Василий Петрович и уже готов был не на шутку рассердиться, но вдруг ясно представил себе, как его Павлик голосом Собинова поет на всю улицу: "Черешня! Черешня!" – и под его усами невольно поползла улыбка. Он смахнул с носа пенсне и залился добродушным учительским смешком: – Хе-хе-хе-хе! – Однако он смеялся недолго, снова нахмурился и со вздохом сказал: – Хотя все это не так смешно, как грустно. Впрочем… с волками жить – по-волчьи выть…