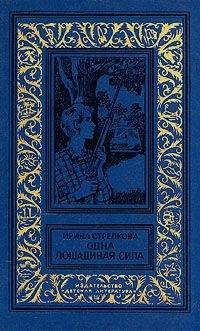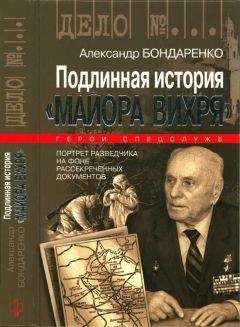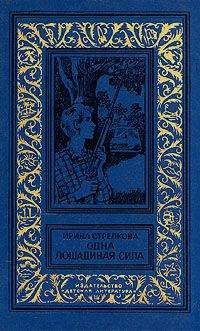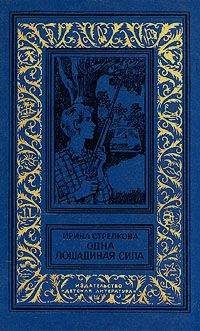Ирина Стрелкова - Одна лошадиная сила
Володя снял с плеч тяжелый, почти доверху полный пестерь на широких брезентовых лямках, присел на пень у края поляны. Гнедой хрупал траву возле бочажка, тревожно прядал ушами и пофыркивал. Володя полез в карман старого плаща, достал свой припас, завернутый в тряпицу. Презрения достойны те, кто тащит с собой на природу пакеты с бутербродами, бутылки с лимонадом, консервы!.. Настоящий грибник предпочитает всем яствам горбушку черного хлеба, посыпанную солью, и никогда не заворачивает ее в бумагу, только в холщовую тряпицу. Такие горбушки, навалявшись в кармане, делаются еще вкуснее. И запивать их надо хрустальной водой из лесного ключа.
Володя отломил кусочек, бросил в рот. Пища богов! Он быстро умял половину горбушки и только тогда спохватился: «Что же я один ем! Надо и его угостить». Он поднялся с пенька и направился к гнедому. Кажется, лошадям подносят хлеб на раскрытой ладони? Володя приостановился в сомнении. Ему никогда не приходилось водить близкое знакомство с деревенскими сивками и саврасками. С фаворитами скачек тоже. Опасливо поглядывая на гнедого, Володя не трогался с места. «Еще лягнет своим тяжеленным копытом! Я для него совершенно чужой. Может, я подбираюсь с подлыми мыслишками. А у него вон какие зубы. Возьмет да и тяпнет. И вообще, почему он шастает один по лесу, а не пасется в дружной лошадиной компании? Подозрительно!» Володя огляделся по сторонам и обнаружил, что на поляне этим летом косили. Круг пожухлой травы остался, очевидно, от копешки сена. А вот и след тележных колес. Кто же тут косил? Лесник? Навряд ли. Он выбрал бы себе покос ближе к Ермакову, где лесничество. А из Дебри косить некому. Там сейчас остались только три старухи, они коров не держат. Но у них, кажется, есть коза? Володе вспомнилась строптивая коза Дуня, которую он держал, когда Танька была маленькой. Интересно, почем теперь воз сена? Володя досадливо помотал головой, отгоняя нелепый вопрос. «Мне дела нет, почем нынче сено, и мне все равно, кто тут косил! Есть загадки поинтересней! Например, та, недавняя, с кладом…»
Клад, найденный при сносе старого дома на улице Володарского, наделал шума на весь Путятин. Заметка про клад даже попала в московские газеты. Нашел его бульдозерист. Развалил громадную печь, и из кирпичей выкатилась круглая жестяная банка. Ни золота, ни серебра в ней не оказалось. В банку были упрятаны туго свернутые дореволюционные бумажные деньги, двадцать тысяч желтыми сторублевками с портретом Екатерины II. Бульдозерист сдал свою находку в милицию, а Фомин преподнес банку Володе в тот самый вечер, когда они вспоминали закончившееся дело Горелова и Володя узнал о предстоящей свадьбе Фомина и Валентины Петровны. «Вот тебе для развития дедукции», — сказал Фомин.
На другое утро Володя уже рылся в старых газетах, переплетенных в пудовые книжищи. «Есть! Нашел!» 1905 год, ноябрь. Заметка об ограблении кассира. Неизвестные лица в черных масках. Полиция полагает, что совершена революционная экспроприация, деньги пойдут на приобретение револьверов для рабочей дружины.
Володя знал, кого можно расспросить о подробностях давнего ограбления. Деда Фомина. Он, конечно, был тогда мальчишкой, с ним в боевой дружине важными секретами не делились, но ходили же по городу какие-то слухи.
Дед обрадовался, увидев Володю. Он стал уже совсем плох, но лечь в больницу отказался. По утрам внуки — Николай и Виктор — переносили его на руках из постели в стоящее у окна старинное вольтеровское кресло, доставшееся Фоминым при распродаже кубринского имущества. Месяц спустя Володя шел перед гробом, обитым кумачом, и нес на красной подушечке орден Ленина, вспоминая свою последнюю встречу с Колькиным дедом. Какая ясная память до самого конца жизни!
«Темное дело, по городу чего только не болтали, — рассказывал ему дед Фомин. — По этому случаю руководители стачки созвали митинг в Народном доме и объявили, что рабочий класс Путятина к ограблению непричастен. Я своими ушами слышал. А уже после революции к нам на юбилей стачки приехал Михаил Васильевич Фрунзе, товарищ Арсений, он у нас бывал в пятом году. Собрались участники стачки, стали вспоминать митинги за Путей, сражения с казаками. И про ограбление заспорили — чьих рук дело. Кто говорит, что жандармы устроили провокацию, чтобы засудить кого-нибудь из рабочих, но не сумели подстроить веские улики. Кто доказывает, что кассира ограбили эсеры и действительно собирались купить на эти деньги оружие, но кто-то их надул, деньги пропали зря. Однако большинство участников стачки стояло на том, что под видом экспроприаторов-революционеров действовали обыкновенные грабители. Такие случаи были тогда не в редкость».
«Но что же случилось с грабителями после нападения на кассира? — размышлял Володя, возвращаясь от Фомина. — Почему все двадцать тысяч остались в целости? Что им помешало поделить добычу?»
Казалось, он зашел в тупик. И тут вдруг Володю осенила мысль. Несомненно, гениальная!
Он кинулся в городской архив: «Где могут быть записаны фамилии тогдашних домовладельцев?»
Чихая от пыли, Володя целую неделю рылся в старых бумагах. Наконец он натолкнулся на переписку городского архитектора с домовладельцами по поводу самовольных пристроек. Архивный гулкий подвал огласился торжествующим хохотом. Вот, оказывается, кому принадлежал дом с кладом, замурованным в печку! Фамилия, имя, отчество — все сходится. Не было, значит, нападения! Не было неизвестных в масках! Кассир симулировал грабеж, запрятал деньги и стал ждать срока давности.
«Но не так уж долго пришлось ему ждать. Грянула революция, и деньги с портретом Екатерины II обратились в ничто», — писал Володя в очерке «Клад», опубликованном городской газетой.
Номер с его очерком Ольга Порфирьевна — она тогда еще не ушла на пенсию — распорядилась поместить под стекло и вывесить в историческом зале музея. Рядом в витрине выставили жестяную банку, набитую царскими деньгами. Путятинцы толпами шли в музей, город наконец-то узнал о своем выдающемся детективе.
…Нетерпеливое пофыркивание возвратило Володю на лесную поляну. Конь чуял запах хлеба, раздувал ноздри и грустно глядел на Володю крупными лиловыми глазами: «Ну что же ты?» Володя мобилизовал всю свою волю, раскрыл ладонь с горбушкой, шагнул вперед. Гнедой тотчас отступил — тоже на шаг. Володя занес ногу, но не шагнул, замер неподвижно — конь озадаченно переступил копытами.
— Ты что? Не доверяешь?
При звуке человеческого голоса конь передернулся, будто припомнил что-то малоприятное.
— Ну, как знаешь.
Володя положил хлеб наземь, попятился. Гнедой не тронулся с места.
— Не стесняйся! Ешь! — крикнул Володя, отойдя к краю поляны.
Конь взмахнул хвостом, приблизился к хлебу, подобрал соленую горбушку мягкими губами и принялся жевать. На грустной длинной морде выразилось удовольствие.
— Извини, брат, что мало! — крикнул Володя, влезая в лямки пестеря. — Я не знал, что мы встретимся!
Пора было возвращаться домой. А по пути можно заглянуть в Дебрь. Возле деревушки есть дивное место для белого гриба.
Володя ревниво относился к своему положению в городской иерархии грибников. Пожалуй, лишь несколько неутомимых дедов и проворных старух приносили белых больше, чем он. В грибной охоте не выедешь на одном везении. Это тебе не рыбалка, где торжествуют удачники вроде Фомина. Наблюдательность и еще раз наблюдательность! Профан рыщет под деревьями в поисках гриба, а истинный знаток не высматривает везде, он ищет грибное место и там спокойненько, аккуратненько занимается сбором. Эту науку Володя усвоил с малых лет. На нем лежала обязанность запасти на всю зиму сушеных и соленых, да еще он подрабатывал в сезон до ста рублей, сдавая грибы на приемный пункт. И сейчас при его музейной зарплате Володю выручали грибы. Из сушеных — суп, соленые хороши с картошкой. И Таньке с Сашей можно послать. Грибы в подарок — питательно и не обидно для их гордости.
Володя поправил на плечах брезентовые лямки и пошагал неторной лесной дорогой по следу тележных колес, глубокому и черному на заболоченных низинках и еле заметному на сухих участках дороги.
Колесный след вывел Володю к заброшенной деревушке. Дебрь и в лучшие свои времена не была большой и многолюдной. Теперь лес забирал обратно все, что у него когда-то отвоевали люди. Кустарник заселил огороды и подступил к заколоченным домам, на стенах полуразрушенной церкви выросли березки, сады одичали, и забредавшие в Дебрь мальчишки уже не соблазнялись отсутствием хозяев — яблоки стали мелкими и горькими. Но три избы наперекор всеобщему запустению бойко посверкивали промытыми окошками, на подоконниках пышно цвела алая герань, соцветия глядели на улицу, будто там все оставалось по-прежнему и есть кому порадоваться красоте.
Три старухи наотрез отказались покинуть свои избы, как ни прельщал их сельсовет комнатами в новом доме с водопроводом и отоплением. Одна из старух доводилась дальней родней сторожихе музея тете Дене. Володя, если случалось забрести в деревушку, непременно передавал дебринской Анютке поклон от тети Дены и уносил из Дебри ответный поклон тетке Денисии. Последние жительницы деревушки рассказывали ему о своей войне с сельсоветом. Неперспективную Дебрь оставили без электричества — старухи отыскали в чуланах керосиновые лампы и запаслись керосином. Сельсовет перестал присылать по весне тракториста для вспашки огородов — три подружки стали нанимать пьяницу Жижина, работавшего на ферме пастухом и имевшего в своем распоряжении лошадь. Сельсоветчики решили применить крутые меры, не снабжать Дебрь хлебом, нечего гонять туда продавца ради трех покупательниц. Напрасные надежды! Три подружки явились на почту и выписали каждая по газете. Никуда не денешься, в Дебрь каждый день катит почтальон, а трудно ли вместе с почтой прихватить для старух хлеба и еще что-нибудь из продуктов! Летом почтальон ездит в Дебрь на велосипеде, а зимой сельсоветчики, кляня упрямых старух, предоставляют в его распоряжение ту самую лошаденку, на которой летом пасет колхозное стадо Жижин. Машины не могут добраться до Дебри ни летом, ни зимой.