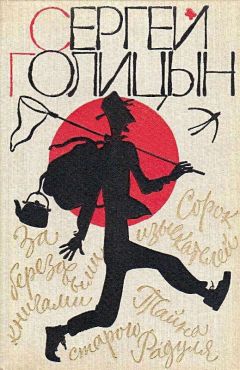Сергей Голицын - Сорок изыскателей
«Неужели я такая красавица?» — тихонечко спросила она.
«Нет, много прекраснее!» — ответил я.
«А почему глаза такие грустные?»
Я молчал.
Мы отправились гулять в парк.
«Вот что, Егор, — сказала она, — много юношей знатнейших фамилий искали руки моей, ни на кого я не хотела взглянуть, а у тебя увидела я то, что не нашла у них: душу увидела живую».
Ах, если в голове моей имелась хоть капля рассудка, я бы ответил: «Я — раб, крепостной, ты — госпожа моя, дворянской крови, стена между нами выше кремлевской. Как могу я тебя любить?» А я обнял ее и поцеловал, и она прильнула устами своими к моим устам. И поцелуй этот был один-единственный между нами…
«Пойдем к папеньке вместе», — сказала она.
Видно, гордость дворянская оказалась сильнее любови родительской. Как бросились мы оба к ногам барина, он поволок барышню и запер ее в спальне. А обо мне, по крайней мере на тот час, забыл, и я скорыми шагами вышел из кабинета, не преследуемый никем. Первое мое дело было — спрятать портрет куда ни на есть дальше, ибо боялся я, что барин в гневе своем разорвет портрет на куски. Свернул я его в трубку и отнес другу своему, купеческому сыну Прохору. У него в саду, в малиннике, я сам схоронился до вечера. С наступлением тьмы ночной проник я во дворец. Собаки знали меня и не залаяли; сторож-старик меня окликнул; я с ним побеседовал немного и понял, что он ничего о нашем несчастии не знает, и что барышня в заточении сидит, не ведает. Страстно желал я увидеть узницу, но добрался лишь до запертой на тяжелый замок двери спальни; тогда я прошел на цыпочках в гостиную, ощупью в темноте отыскал стеклянный шкафчик, открыл его, взял кинжал и потихоньку прокрался в спальню барина. Барин спал, лежа на спине с открытой шеей, и легонько храпел. Я встал у его изголовья. При свете лампады явственно различил я его лицо. Мне только руку поднять и ударить кинжалом что есть силы…
Но тут вспомнил я, что он родитель барышни, и не поднялась моя рука. В открытое окно далеко в парк забросил я кинжал и быстрыми шагами вышел из спальни…
Как же передать барышне свое последнее письмо, чтобы стражники не перехватили? Вспомнил я тайник в угловой кремлевской башне, под окном, какой знал, еще будучи мальчиком. Ход туда был по внутренней лестнице, барышня знала тот ход. Эту башню на прошлой неделе мы вместе рисовали. Взял я из шкафчика второй кинжал, чтобы камень им отвернуть, и ушел из дворца. Картинку-то любая сенная девушка не побоится передать, подумает — на память я послал. Так и не узнал я никогда, догадалась ли барышня, получила ли мое последнее, спрятанное в тайнике письмо и кинжал.
А моя участь, видно, влачить горестное существование крепостного раба, по воле господина своего отданного в солдаты на сей погибельный Кавказ. Вот уже пятый год, как не держал я кисти в руке, как не видел я красок и холста подходящего. Величайшая мука для живописца — оставаться в безделии. Тут, у подножия синих гор Кавказских, на знойном берегу бескрайнего Черного моря, видно, окончится жизнь моя.
И никогда не узнаю я, забыла меня Иринушка моя любимая, утешилась с каким добрым молодцем или всечасно тоскует по мне и все глаза повыплакала.
Дописал до конца свою повесть. Лежу на соломе в сырой землянке, прикрытой солдатской серой шинелью. Солнце палит, злая лихорадка треплет меня, руки-ноги немеют…
После смерти моей прошу переслать по почте сию тетрадь в город Любец. Прохору сыну Андрееву Нашивочникову, в дом, что насупротив пожарной каланчи.
Егор С.»— Что бы ему фамилию свою дописать… — Номер Первый кончил чтение, сложил тетрадь и сунул рукопись в карман. — Страшное времечко было! — задумчиво сказал он. — Так где же портрет? — воскликнула Люся.
— Мы узнали очень многое, кроме самого главного. Мы не знаем, где портрет и как фамилия художника Егора, — ответил Номер Первый. — А все-таки мы выясним истину до конца! — заключил он, стукнув ладонью по скамейке.
Мы собрались уходить. Ларюша подошел к Люсе:
— Вы останьтесь, пожалуйста.
Люся молча кивнула головой и покраснела. Женя также остался. Ни он, ни Ларюша ни за что не хотели нам показать, как у них получается Люсин портрет.
— Будет готово — покажем, — говорили они.
Ларюша вышел на крыльцо нас провожать.
— Да, я забыл спросить… — Как всегда, самые важные разговоры начинаются после прощания… — Как поживает Номер Четвертый, наш бывший хозяин? Не развел еще голубых георгинов?
— Иван Тихонович-то? — спросил Номер Первый. — Представь себе, Ларюша, пропал он куда-то, понятия не имею. Да, кстати, он ведь тоже Нашивочников.
— Нашла! — Соня завизжала на всю улицу и кинулась ко мне. — Нашла! Это наш сердитый Нашивочников!
И я вспомнил:
— Ну конечно, он! Я его знаю!
Под крышей дома нашего хозяина в Золотом Бору прибита дощечка: «Улица Белородничная, дом номер 5, Нашивочников И. Т.».
Номер Первый схватил меня за руку:
— Вы его знаете? Где он сейчас?
— Иван Тихонович, угрюмый, неразговорчивый, волосатый? Вы его тоже знаете? — И я схватил Номера Первого за руку.
— С такими бровищами, с такими усищами и бородищей?.. — показывая руками, кричала Соня.
— Это Номер Четвертый! Изыскатель Номер Четвертый! — От избытка чувств Номер Первый кричал еще громче Сони.
— Гм-гм! — глубокомысленно промычал Ларюша. — Но я никогда не видел у нашего любецкого хозяина портрета. Никогда и разговоров о портрете не было.
— И я у своего не видел, а я был и в комнатах, и в чуланах, и в кладовке, — подтвердил я.
— Так-то он и повесит вам портрет на стену, если только портрет у него! — горячился Номер Первый. — Он его в подвале спрятал, в сундуке за семью замками запечатал. Вот куда Иван Тихонович делся! В Золотом Бору теперь его логово! Голубые георгины еще не вывел? Он с ума сошел с этими георгинами! Знаменитый цветовод! Это из-за георгинов, Ларюша, твой отец прозвал его изыскателем, а какой он изыскатель? Он вроде улитки, запрятался в свою раковину, ни с кем знаться не хотел! Что он там у вас делает? Показывал он вам свой сад? — возбужденно восклицал и спрашивал Номер Первый.
— А действительно, он меня в свой сад никогда не пускал, — растерянно ответил я.
— Я один раз в щелочку сквозь заборчик подглядывала, а он меня прогнал, — пролепетала Соня.
— Никогда никто на свете, — возбужденно рассказывал Номер Первый, — не мог вывести голубые георгины, а он говорит: я выведу. А тут наш завод бутылочный решили перестраивать: новый хрустальный цех возводить. В какую сторону расширять: где целую улицу сносить или где один дом мешает? Участок отвели Ивану Тихоновичу на другом конце города, в два раза лучше прежнего. Нет, не захотел переселяться, жаловался всем и каждому, даже в Москву ездил. Мои георгины, говорит, в мировом масштабе открытие, я этому делу всю жизнь посвятил. Так и уехал из Любца, даже ни с кем не попрощавшись. А оказывается, совсем недалеко перебрался… Вот что! Завтра же в Золотой Бор. Нагрянем к нему в гости.
— Я тоже поеду с вами. Будем вместе искать! — воскликнул Ларюша. Он быстро обернулся к Люсе: — Я там допишу ваш портрет. Хорошо? — тихо спросил он ее.
— Хорошо, — прошептала Люся.
Мы все по очереди пожали руку Ларюше. Я дал ему свой адрес, завтра с утра он явится к нам, а после обеда мы отправимся в Золотой Бор.
Должен сказать: после виденного и слышанного за день у меня голова кружилась и ноги едва двигались. С Номером Первым и Майклом мы покатили на такси домой обедать, а неутомимые изыскатели отправились на троллейбусе и на метро на Выставку достижений народного хозяйства.
Плотно пообедав, улеглись мы с Номером Первым немножко подремать. Проснулся я только к вечеру. Нашего гостя в комнате не было, только Майкл, привязанный к ножке стола, тоскливо поглядывал на меня. Из кухни слышалось отдаленное журчание голосов. Видно, опять оба историка сели на своего любимого конька.
Ребята явились поздно и до такой степени утомленные, что не стали ни обедать, ни чай пить. Они хотели только спать, спать и спать.
Люся и Женя явились еще позднее.
Ночь прошла без всяких приключений.
Утром Тычинка взял меня под руку и шепотом сообщил такую новость, что от удивления я даже зашатался.
— Я спешу на работу: сегодня же беру отпуск и еду с вами в Золотой Бор.
Тычинка, который никогда не ходил ни в кино, ни в театр, потому что «далеко», который двадцать лет никуда из Москвы не выезжал, этот самый благонамеренный, пунктуальный Тычинка вдруг задумал к нам присоединиться!
Несмотря на ранний час, неожиданно из своей комнаты выплыла Роза Петровна и объявила мне страдальчески-дрожащим голосом, что она никогда в жизни в минуты опасности не покидала своего супруга и тоже отправляется вместе с нами путешествовать. Глаза бедной Розы выражали такую невыразимую, безысходную скорбь, точно ее вели на казнь и уже палач занес над ее головой топор. Она никого стеснять не будет, мешать нам не будет и намеревается только заботиться о своем любимом Ванюшечке. Остановятся они в гостинице.