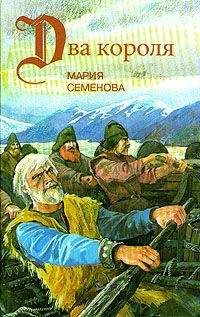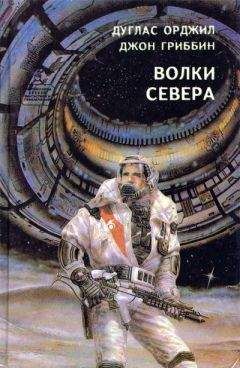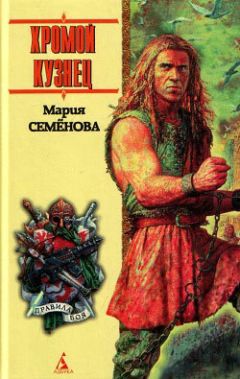Мария Семенова - Пелко и волки (сборник)
А когда я поднял наконец голову, надо мной стоял князь.
Я почему-то сразу понял, что это был князь. Хотя никакого такого убранства на нём не заметил, ни гривны на шее, ни крашеного плаща. Гридень вроде и гридень, а по одёже так и не из первых. А есть же что-то, без языка величает, без слова рассказывает: князь! Были у него длинные седые усы. И волосы, что зола, прикрывшая жар. И морщины, будто шрамы, от глаз по щекам. И глаза – точь-в-точь как у сокола того, что на знамени, над кораблями его летел. Рюрик, это ведь и значит по-варяжски – сокол такой. Самый яростный. Тот, что на ловле рвёт добычу в мелкие клочья, если вовремя не подоспеть…
А воины набежавшие стояли смирно вокруг. Никто меня без княжеского слова тронуть не смел.
– Ну? – сказал он мне, и вроде бы даже с усмешкой. – Чего ещё натворил?
И так выговорил, будто я не с мечом в крови во двор к нему вомчался, а с голубем дохлым… Вот тут-то я, на локтях приподнявшись, рассказал ему всё. Всё без утайки, от того дня, когда подошёл с озера баский красно-белый корабль, и до дня нынешнего, когда увидел Олава на торгу. И скверно, поди, рассказал, да у кого в моей шкуре вышло бы ладно?.. Рюрик, впрочем, меня не перебивал. Когда же я кончил, приговорил так:
– Меч здесь положи. Ступай в дом…
А у меня и пальцы на рукояти словно окостенели, едва разомкнул. Тут меня взяли сзади за локти, подняли, повели. Я покосился: молодой ещё гридень, лицо широкое и вроде незлое, борода – веник рыжеватый…
– …а не то убьют малого да и правильно сделают, – за моей спиной сказал кому-то князь. – Олав этот Хрутович мне ведом, муж нарочитый. А и парень сам прав, на Олаве родовичей его кровь…
На своём языке сказал, однако я понял. Речь варяжская со словенской что сёстры, это не с датчанином каким говорить.
– Повезло тебе. – проворчал над ухом бородатый. – Меня Жизномиром зовут, я Добрыне твоему шурин… буду шурин, когда с сестрой свадьбу сыграют.
Эту весть я проглотил не жуя. Еле понимал только то, что на расправу меня вроде не отдадут. А правду сказать, и не больно я этому радовался, хотя, конечно, не горевал. Я ведь думал о том только, чтобы с Олавом рассчитаться. А как дальше жить стану – холопом подневольным, без отца-матери, без родного угла – не помышлял! Задумаюсь ещё, всему своё время… Жизномир меня провёл через гридницу, потом куда-то ещё, я толком и не приметил, вроде в избу дружинную. Толкнул в угол, к лавке, велел сидеть тихо, но сам тут же спросил:
– Чего скособочился?
Я рассказал нехотя, как был ранен стрелой. Он велел показать, обмял тело короткими сильными пальцами и присвистнул:
– Да у тебя весь наконечник там! Ложись – вынимать стану.
Дело худое, но не с воином спорить о ранах. Да и не хотелось мне с ним спорить, не хотелось совсем ничего говорить. Я лёг на лавку. Я не закричу.
– Ишь, гнили-то, – пробормотал Жизномир. Нащупал что-то и дёрнул, и всё моё тело вдруг стало похоже на надутый пузырь: тронешь, зазвенит, а уж лёгкое, только что само собой в воздухе не плывёт. А потом я вроде и поплыл куда-то над лавкой, над полом, над дымным очагом в полу… И даже когда Жизномир раскалил железный прут и прижёг, чтобы больше не гнило, я и это почувствовал словно бы издалека.
5
Кроме места в дружинном доме у князя, была у Жизномира и своя изба в Ладоге, от Добрыниной не так далеко. Тот двор здесь стоял ещё когда Рюрик-князь у себя за морем сидел, в Старграде, в Вагрской земле. Прежде жили в доме Жизномировы дед и отец, а ныне и сам он – богатый хозяин. С челядью, домочадцами и сестрицей Найдёной.
Хотя сестрой она ему была только по имени: Некрасовичи оба. Это он мне рассказал, а мог бы я и сам смекнуть, прислушавшись получше: Найдёна. Как так? А вот как.
Мыслю, лихо должна прижать нужда человека, чтобы задумался человек тот о страшном: кинуть у чужих людей своё родное дитя. За себя могу сказать и скажу – никогда такого не сделаю. Моя мать ведь под меч бросилась, меня, раненого, прикрыла… Вот потому. Да только люди-то меж собой различаются, и в том числе – крепостью сердечной. И, видать, стало кому-то вовсе невмоготу. Вот и подкинули Жизномирову отцу под калитку кроху в тряпице. Но не просто так подкинули: знали же, что накануне умерла у того новорождённая дочь. А Жизномир, взрослый парень, единственным был. Ещё рождались, да слабенькие всё, до первой зимы. Пустовато было в избе.
Стало быть, прижилась Найдёна, как деревце пересаженное. Сама даже долго не ведала о своём неродстве. А узнала, так не больно задумалась. Любили ведь, ровно свою! Девка и вытянулась: не сказать какая красавица, но собой ладненькая, лицом улыбчивая и нравом приветливая. И разумница – другую поискать. А уж пела! Заведут песню девки на посиделках в женской избе, а слыхать её одну. Как соловья. Оттого и прозвали Словишей, Соловушкой то есть…
Парни заглядывались. И сама невеста хороша, и с Жизномиром, в дружину принятым, породниться нехудо. Она же с малых лет всё с Добрыней моим дружбу водила, ныне вот к зиме и замуж за него собралась. Правду молвить, Жизномир недолюбливал кожемяку и нелюбви своей не таил. Хотел, знать, для сестры жениха побогаче, да и служил Добрыня когда-то не Рюрику, а врагу его смертному, беглому князю Вадиму… Впрочем, неволить Найдёнку Жизномир не решался. Говорили люди, строго-настрого наказывал ему отец: сестру береги!
Долго или коротко я после Жизномирова лечения пролежал, толком не помню. Может, день, может, и больше. Однако потом всё же глаза раскрыл и поднялся. И вот что вокруг себя увидал: хоромину таких размеров, что весь Олавов корабль встал бы посередине. В полу – сразу несколько очагов для тепла, по стенам – лавки широченные, над лавками, по бревенчатым стенам – ковры дорогие и добрые меховые шкуры. И оружие повсюду. Щиты посечённые, мечи в ножнах и топоры в чехлах. Дружинный дом! Я ведь его допрежь-то как следует и не разглядел.
– Ты, малый, со двора далеко не гуляй, – сказал мне Жизномир. – А всего лучше, здесь посиди!
Он продолжал приглядывать за мной, и я был ему благодарен. В крепости жила тьма-тьмущая всяких слуг и рабов: портомои, оружейники, конюхи, повара. И помещались, понятное дело, не с гриднями в одной избе. Но Жизномир посоветовался обо мне с побратимами, и те согласились пока подержать меня под своим крылом. Тоже понятно: здесь меня никаким урманам не взять. Потому и вон выходить заказали. Не того ради, сказал мне Жизномир, князь тебя заслонил, чтобы собственное недоумие тебя погубило. Да я и сам не шёл никуда, лежал почти что пластом.
Урмане в тот же день при мечах во двор приходили, требовали меня выдать. Сказывали – весь торг видел, куда побежал! Князь и не отпирался. Дал им виру за Олава, как Правда велела. Сорок гривен!.. Я такой силы серебряной враз-то, поди, никогда и не видал. Это же какую пропасть добра всякого скопом можно купить!.. Но им, урманам, до Правды нашей дела не было. Свою соблюдали. Виры не пожелали: хотели моей головы. Нам, молвили, своей кровью торговать непривычно. Мы своих убитых не в кошелях на поясе носим. А ныне не простого ватажника хороним: хёвдинга-вождя! И громко, гордо так говорили. Однако князь упёрся. Почему? По нынешний день не знаю. Неужто пожалел?.. Так сказал тем урманам: виру берите или не берите, ваша забота. А парня не отдам.
Те поскрипели, поскрипели… С князем поспоришь! Его, Рюрика, когда ещё всё море Варяжское страшилось. Да и ныне силой не оскудел, и не одной силой, но и словом разумным. Невелика, сказал, похвальба прирезать холопа. Больше чести с меня, конунга-князя, виру истребовать… Уговорил ведь – отступились. Унесли на лодью серебро. Князь ещё и на пир их позвал, чтобы не держали обиды. А что ему зря их обижать, они перед ним ни в чём не были виновны. Сельцо-то наше не к Ладоге тянуло, наши топор да соха не в Рюриковы земли ходили…
Всякой живой душе необходима приязнь, без неё с волком побратаешься. Жизномир меня от себя не гнал, я к нему и привязался. Вечерами дружина собиралась вся вместе в светлой гриднице, садилась за столы, и я служил Жизномиру, как старшему младший. Служил в охотку: его здесь уважали, в глаза говорили, что смелый и драться горазд один на один. Так и величали – хоробр. А хоробру прислуживать не стыд! И ему, и иным княжьим мужам. То и дело хромал я от одного к другому когда с блюдом, когда с рогом наполненным, когда с корчагой… Могучие воины не покрикивали на меня, не попрекали хлебом-солью. Сами в плен попадали и из плена бегали. Я знал.
…Этот пир я в щёлочку смотрел: незачем мне было мозолить глаза Олавовым товарищам. Рослые урмане сидели сперва хмуро, потом опрокинули по рогу, стали шутить. Под конец, когда гусельщики заиграли, веселились уже от души. И веселился с ними князь. А я сидел у своей щёлки, смотрел на них неотрывно и по временам удивлялся: да полно, со мной ли это всё?..
На другой день их лодья подняла парус, и Добрыня пришёл за мной на княжеский двор. Господии Рюрик сам отдал ему тот меч: