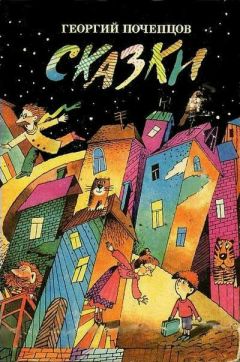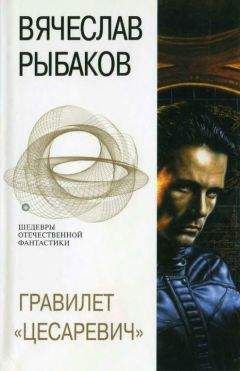Анатолий Рыбаков - Кортик
В коридоре тихо. Только слышно, как падают в ведро капли из бачка с кипяченой водой да сверху, из гимнастического зала, доносятся звуки рояля: трам-там, тара-тара, трам-та-та, трам-та-та, трам-та-та, и на потолке глухо отдается равномерный топот маршировки: трам-та-та, трам-та-та…
Нехорошо получилось! Являйся теперь к директору. Алексей Иваныч, конечно, спросит о книге… Зачем да почему…
И все из-за этого задавалы Юрки-скаута! Он все фасонит. Определенно буржуазный тип.
Раздался звонок. Тишина разорвалась хлопаньем многочисленных дверей, топотом, криком и визгом.
Из класса вышел Юра Стоцкий.
— Ты зачем тетю Брошу обругал? — остановил его Миша.
— Тебе какое дело? — Юра презрительно посмотрел на него.
— Ты на меня так не смотри, — сказал Миша, — а то быстро заработаешь!
Их окружили ребята.
— Какую привычку взял, — продолжал Миша, — оскорблять технический персонал! Это тебе не дома — на прислугу орать.
— Чего ты с ним, Мишка, разговариваешь! — Генка протолкался сквозь толпу ребят и стал против Юры. — С ним вот как надо!
Он полез драться, но Миша удержал его:
— Постой… Вот что, Стоцкий, — обратился он к Юре, — ты должен извиниться перед Брошей.
— Что? — Юра удивленно вскинул тонкие брови. — Я буду извиняться перед уборщицей?
— Обязательно.
— Сомневаюсь! — усмехнулся Юра.
— Заставим, — твердо сказал Миша. — А если не извинишься, поставлю вопрос на классном собрании.
— Мне плевать на ваше собрание!
— Не доплюнешь!
— Посмотрим.
— Посмотрим.
Перед последним уроком немецкого языка Генка вбежал в класс и закричал:
— Ура! Альма не пришла, собирай книжечки!
— Подожди, — остановил его Миша и крикнул: — Тише, ребята! Сейчас будет классное собрание.
— Ну вот еще!.. — недовольно протянул Генка. — Ушли бы домой на два часа раньше!
— Как будто нельзя в другой раз собрание устроить, обязательно сегодня! — сказала Леля Подволоцкая, высокая красивая девочка с белокурыми волосами.
— Не останусь я на собрание, — объявил Кит, — я есть хочу.
— Останешься. Ты всегда есть хочешь. Будет собрание, и всё. — Миша закрыл дверь.
Когда все сели по местам, он сказал:
— Обсуждается вопрос о Юре Стоцком. Слово для информации имеет Генка Петров.
Генка встал и, размахивая руками, начал говорить:
— Юра Стоцкий опозорил наш класс. Он назвал тетю Брошу старой дурой. Это безобразие! Теперь не царский режим. Небось Алексея Иваныча он так не назовет, побоится, а тетя Броша — простая уборщица, так ее можно оскорблять? Пора прекратить эти барские замашки. Вообще скауты за буржуев. Предлагаю исключить Стоцкого из школы.
Потом поднялся Слава. После некоторого размышления он сказал:
— Стоцкому пора подумать о своем мировоззрении. Он индивидуалист и отделяется от коллектива. Подражать Печорину нечего. Печорин — продукт разложения дворянского общества. Это все знают. Юра должен извиниться перед тетей Брошей, а исключить из школы — это слишком суровое наказание.
Слово попросила Леля Подволоцкая.
— Я не понимаю, за что пионеры нападают на Юру, — сказала она. — Генка в тысячу раз больше хулиганит, а еще пионер. Это несправедливо. Нужно прежде всего выслушать Юру. Может быть, ничего и не было.
Стоцкий, не поднимаясь с места, глядя в окно, сказал:
— Во-первых, я в скаутах больше не состою. Если Генка не знает, пусть не говорит. Кроме того, он еще не директор, чтобы исключать из школы. Нечего так много брать на себя. Во-вторых, я принципиально не согласен с тем, что закрывают вешалку, — это ограничивает нашу свободу. В-третьих, я вообще ни перед кем отчитываться не желаю. Извиняться я не буду, так как не намерен унижаться перед каждой уборщицей. Вы можете постановлять что вам угодно, мне это глубоко безразлично.
Потом выступил Шура Огуреев. Он вышел к учительскому столику, обернулся к классу и произнес такую речь:
— Товарищи! Инцидент с тетей Брошей нужно рассматривать гораздо глубже. Что мы имеем, товарищи? Мы имеем два факта. Первый — оскорбление женщины, что недопустимо. Второй — употребление слова «дура». Такие слова засоряют наш язык, наш великий, могучий, прекрасный язык, как сказал Некрасов…
— Не Некрасов, а Тургенев, — поправил его Миша.
— Нет, — авторитетно произнес Шура, — сначала сказал Некрасов, а потом уже повторил Тургенев. Нужно читать первоисточники, тогда будешь знать… Я предлагаю запретить употребление таких и подобных слов.
Весьма довольный своей речью, Шура направился к парте и с важным видом уселся на свое место.
— Кто еще хочет высказаться? — спросил Миша и, увидев, что Зина Круглова хочет, но не решается выступить, сказал ей: — Говори, Зина, чего боишься?
Зина поднялась и быстро затараторила:
— Девочки, это ужасно! Я сама видела, как тетя Броша плачет. И нечего Юру защищать. А если он нравится Леле, пусть она так и скажет. Потом Шура. Он очень красиво говорил о женщинах, а сам на уроках пишет письма девочкам. Это тоже неправильно… Потом, — продолжала Зина, — я хотела сказать о Генке Петрове. Он на уроках всегда меня расхохатывает. — Тут Зина рассмеялась и села на свое место.
После всех выступил Миша:
— Стоцкий обругал тетю Брошу потому, что считает себя выше ее. А чем он выше тети Броши? Я думаю, ничем. Она тридцать лет работает в школе, приносит пользу обществу, а Юра сидит на шее своего папеньки, в жизни еще пальцем о палец не ударил, а уже оскорбляет рабочего человека. Я предлагаю: Юра Стоцкий должен извиниться перед Брошей, а если он не захочет, передать вопрос в учком. Пусть вся школа обсуждает его поступок.
Классное собрание постановило: обязать Стоцкого извиниться перед тетей Брошей.
Глава 56
Литорея
После собрания Миша явился к директору школы.
Алексей Иваныч сидел в своем кабинете за столом и перелистывал книгу, ту самую, что отобрала у Миши Александра Сергеевна. Он глазами указал Мише на диван и сказал:
— Садись.
Миша сел.
— Что вы обсуждали на собрании? — спросил Алексей Иваныч.
Миша рассказал.
— Постановить — это полдела, — сказал Алексей Иваныч. — Нужно, чтобы Стоцкий осознал низость своего поступка.
Он помолчал, потом спросил:
— А твое поведение обсуждали?
— Какое поведение? — Миша покраснел.
— Посторонние книги читаешь на уроке, записки пишешь.
— Книгу я не читал, — сказал Миша, — она просто так лежала. Записку действительно писал…
— Скажи, Поляков, — Алексей Иваныч внимательно посмотрел на Мишу, — почему тебя интересует холодное оружие?
— Просто так, — ответил Миша, глядя на пол.
— Кроме того, — продолжал Алексей Иваныч, как бы не слыша Мишиного ответа, — ты и твои приятели интересуетесь шифрами. Хотелось бы узнать: зачем?
Миша молчал, и опять, как бы не замечая его молчания, Алексей Иваныч продолжал:
— Возможно, ваши занятия очень интересны, но дают ли они желаемый результат? Если все идет успешно, то продолжайте, а если нет, скажи: может быть, я помогу.
Миша напряженно думал. Может быть, показать пластинку? Вот уж два месяца, как они бьются и не могут прочесть надпись. На обеих пластинках совершенно одинаковые значки, а ключа к ним нет. Значит, Полевой думал, что ключ к шифру в ножнах, а Никитский предполагал, что он в кортике. На самом же деле ни там, ни здесь ключа нет… А пожалуй, надо показать… Уж если Алексей Иваныч не прочтет — значит, никто не разберет.
Миша вздохнул, вынул из кармана пластинку от рукоятки кортика и протянул ее Алексею Иванычу:
— Вот, Алексей Иваныч, мы никак не можем расшифровать эту надпись. Я слыхал, что это литорея, но мы не знаем, что такое литорея.
— Да, — сказал Алексей Иваныч, рассматривая пластинку, — похоже. Литорея — это тайнопись, употреблявшаяся в древнерусской литературе. Литорея была двух родов: простая и мудрая. Простая называлась также тарабарской грамотой, отсюда и «тарабарщина». Это простой шифр. Буквы алфавита пишут в два ряда: верхние буквы употребляют вместо нижних, нижние — вместо верхних. Мудрая литорея — более сложный шифр. Весь алфавит разбивался на три группы, по десяти букв в каждой. Первый десяток букв обозначался точками. Например, «а» — одна точка, «б» — две точки и так далее. Второй десяток обозначался черточками. Например: «л» — одна черточка, «м» — две черточки и так далее. И, наконец, третий десяток обозначался кружками. Например, «х» — один кружок, «ц» — два кружка… Значки эти писались столбиками. Понял теперь?
— Это же очень просто! — удивился Миша. — Теперь я понимаю, как прочесть пластинку!
— Это было бы просто в том случае, — возразил Алексей Иваныч, — если бы на этой пластинке в каждом столбике было от одного до десяти знаков, а здесь самое большее пять…