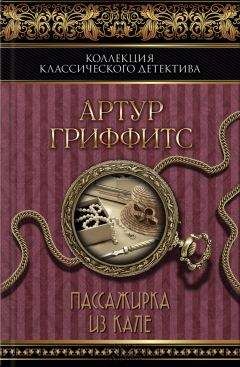Вероника Кунгурцева - Похождения Вани Житного, или Волшебный мел
— Дедушко–суседушко–о!
— Дедушко–суседушко–о!
— Стань передо мной, как лист перед травой — ни зелен, как дубравный лист, ни синь, как речной вал…
— Приходи, каков я!
— Приходи, каков я!
Ещё и эхо откликалось на слова — поэтому шум в подземелье стоял изрядный, если был тот, кто слушал — не услышать их он не мог. Василиса Гордеевна подождала — но ответа не было. Ваня же, пока бабушка не видит, оттопырил шерсть из ушей — чтоб лучше слышать, но и так тоже ничего не услыхал. Бабушка, став на карачки, сильнее перегнулась в яму, так что Ваня, испугавшись, что она свалится туда, схватил её за подол. Ни ответа, ни привета из земляного колодца по–прежнему не шло. В сердцах Василиса Гордеевна буркнула:
— Заснул он там, что ли?! Вроде до зимы ещё далеко — в спячку ударяться. Ну–ко, Ваня, по-другому попробуем: Шишок[11], кричи, хозяин зовёт…
— Эй, Шишок, хозяин тебя зовёт! — закричал Ваня в яму, подставив ладони ко рту. — А кто это — хозяин? — обернулся он к бабушке.
— Ты ведь зовёшь… Ты и есть хозяин.
— Я–а?! — Ваня так и обомлел.
А званый опять не отзывался.
— Тьфу! — плюнула в сердцах Василиса Гордеевна. — Не желат… Ну ладно — придётся возвращаться несолоно хлебавши.
Тем же путём пошли обратно, только дверцу, заметил Ваня, бабушка запирать не стала.
— А он что — в яме и живёт, Шишок этот? — спросил Ваня, когда вылезли наверх, вытащили шерсть из ушей, бросили её в печку и бабушка захлопнула крышку подполья.
— Ну, как сказать…
— А он не труп ходячий? Я их навидался там, мертвяков этих, — в морге, в больнице‑то, больше не хочу…
— Какой тебе труп! Шишок — он и есть Шишок. Постень[12].
Василиса Гордеевна поставила самовар, навалила красных углей ему в трубу, сверху надела яловый сапог книзу голенищем, сапог заходил в её руках книзу–кверху, навевая нутряной ветер, и — угли запылали. Когда вода закипела, сели пить чай.
Но не выпили и по паре чашек, как вдруг крышка подполья со стуком и бряком, как пробка от шампанского, взлетела к потолку, ударилась об него, а под крышкой оказался кто‑то полосатый, с балалайкой под мышкой. Этот кто‑то легко опустился на пол, будто вцепился не в тяжеленную деревянную крышку, а в парашют. И Ваня узнал свою давно пропавшую больничную пижаму, штанины были подкачены и всё равно волочились по полу — тот, кто был в неё облачён, ростом не отличался. Из‑под штанин виднелись крепкие босые ноги, лица же Ваня никак не мог разглядеть — человек всё ещё стоял с крышкой на голове.
— Ты чё это дом ломашь? — сердито приветствовала гостя Василиса Гордеевна. — Без шуму у тебя никак не получатся заявиться, да?..
Пришелец снял с головы крышку и, наклонившись, приладил её на место — а когда распрямился и поглядел на них, Ваня подскочил и криком закричал: потому что у того, кто вылез из подполья, лицо было Ванино… Ростом он был Ване по плечо, голова здоровая, нечёсаная и лохматая, волосья серые, как у него же, когда он жил в больнице. А лицо — сегодняшнего Вани… Кричал Ваня не переставая — пока Василиса Гордеевна не шлёпнула его хорошенько по щеке. Тогда Ваня прекратил орать, только стоял с вытаращенными глазами.
— Ну вот как вы меня встречаете! — заговорил низким — мужским — голосом лохматый Ванин двойник. — Орёте, как резаные. И чё тогда звали?
Подпольщик придвинул к столу табуретку, сел, закинув ногу на ногу, и пристроил к табуретке балалайку. Обомлевший Ваня увидал, что подошва закинутой ноги поросла щетиной, как щёки небритого неделю мужика. Посреди груди на пижаму была приколота медаль. Ваня не знал куда глаза девать: в лицо своё смотреть страшно, посмотрит на ноги — шерсть на подошвах, бр–р, в дрожь бросает, а тут ещё посреди туловища медаль за отвагу…
— Ваня, — сказала Василиса Гордеевна, указывая глазами на пришельца и как ни в чём не бывало прихлёбывая чай с блюдечка, — это вот и есть Шишок. Шишок, а это твой хозяин…
— Да уж вижу, — почесав подошву, отвечал Шишок. — Пужливый больно — а так ничего. Наконец‑то хозяин в доме объявился, а то ведь позорище — изба сколь времени без хозяина стояла! Сколь времени одни бабы тут заправляли — стыдоба!
— А тебе не стыдоба! А я‑то думаю, куда это балалайка пропала?.. А он её подтибрил! Хорош гусь, нечего сказать.
— А она тебе нужна, балалайка эта, ты на ней играешь? — кладя инструмент на колени, подальше от рук Василисы Гордеевны, ворчал Шишок. — Это Валькина балалайка, не твоя вовсе.
Что это за Валька такой? — зацепился Ваня за новое имя. Или… такая?..
— Не моя? А на чьи деньги куплена? Да ладно тебе — вцепился в струмент мёртвой хваткой, что я, его отыму, что ли? Нужон он мне больно. Поставь–ко хоть вон в угол — никто не возьмёт, не бойся.
— Ничё, пускай тут полежит, своя ноша не тянет.
— Своя… — проворчала Василиса Гордеевна.
А Шишок, распахнув рот, одну за другой, как фокусник в цирке, стал кидать туда сушки. (Ваня и не знал, что рот его на чужом лице может так широко открываться, попробовал так же раззявить, но у него ничего не вышло. Мышцы, что ли, у этого Шишка какие‑то другие…) Переправив в себя все сушки до единой, Шишок стал мрачно жевать. Оглядев стол, спросил с укоризной:
— А подушечки где? Всякая гадость наставлена, а подушечек нет…
— Не выпускают уж подушечки те, — наливая себе четвёртую кружку чаю, сказала Василиса Гордеевна.
— Ли–ко! Вот так всегда! Как что хорошее — так они не выпускают. А ландрин есть?
— И ландрину нету.
— Тоже не выпускают?!
— Тоже.
— Тьфу! — в сердцах плюнул Шишок, поднялся и пошёл вон, волоча балалайку за собой. Ваня побежал за ним следом.
Заглядывая в каждую комнату, Шишок одобрительно кивал:
— Так, всё на своих местах, ничего не переменилось. Молодца, Василиса Гордеевна, ничего не скажешь — мо–лод–ца!
— Да уж, для тебя специально старалися! Чтоб Шишку угодить! — ядовито говорила бабушка.
Шишок остановился у простенка с фотографиями и, ткнув в бородатого мужичонку, лежащего на крыле взлетающего самолёта, гордо сказал Ване:
— А это я, хозяин, узнаёшь?! Героический солдат, кому попало ведь медали «За отвагу» — то не давали…
— Вы–ы? — ошеломлённо спросил Ваня и, замявшись, добавил: — Так у вас же тут совсем другое лицо…
— Чего ты мне выкаешь — чай не баре! Другое лицо… Какой хозяин — такое и лицо. Сейчас ты мой хозяин — и лицо у меня твоё. А тогда был другой хозяин, и лицо, значит, другое.
Приглядевшись, Ваня понял, что и вправду лица у дедушки Серафима Петровича и Шишка на фото очень похожие, только Шишок с бородой, а дедушка бритый.
— Так ты что — лица можешь менять?!
— А ты, что ль, не можешь? Вот погляжу я на тебя лет в двадцать, а после в семьдесят — совсем разные на тебе будут лица.
— Ну–у, так это же совсем другое.
— Чего другое — ничего не другое.
Шишок уселся на подвернувшийся стул, закинул ногу на ногу, сверху балалайку пристроил и, закатив глаза, затренькал что‑то без складу и ладу, потом шваркнул трёхстрункой об стол и запричитал:
— Эх, как вспомню, как умирал старый хозяин, царствие ему небесное, — если он там, конечно, — так и заплачу в голос! Он умер — и лицо его с меня сошло. И сколько времени я без лица ходил! Вспоминать тошно. Это ужасти какие‑то… Даже кошки от меня шарахались. А сейчас, спасибо Василисе Гордеевне, — поклонился ей Шишок, — что хозяина домой воротила, и я с лицом теперь, как домовику и положено. Дай, хозяин, облобызать хоть тебя…
Шишок подскочил к Ване и, пристроив голову на его плече, обмочил слезами всю рубашку — даже до тела достало. Ваня смотрел на Василису Гордеевну, стоявшую на одной ноге, спрашивал её глазами: что делать‑то? Как его утешать? Бабушка, не сдвинувшись с места, ткнула Шишка своей клюкой в бок:
— Ну хватит, хватит сырость разводить, ровно маленький. Самому уж годков‑то… не буду говорить сколько, чтоб робёнка не пугать. Мы ведь не просто так тебя звали — а по делу. Вот и пошли побалакаем.
Слёзы у Шишка мгновенно высохли — и следов не осталось. Он небрежно оттолкнул Ваню и, подхватив свою балалайку, отправился следом за бабушкой.
Вновь все расселись вокруг стола — ещё самовар не успел остыть. Шишок протянул руку за чашкой — и Ваня углядел, что и ладони у него слегка шерстистые… не такие, конечно, как подошвы, а покрыты вроде как двухдневной щетиной. Ваню опять передёрнуло. А Василиса Гордеевна между тем говорила:
— Беда ведь у нас, Шишок, большая беда — сносить нас хотят. Дескать, дадим квартиру в девятом этаже…
— Вона как! — удивился Шишок. — Изба‑то ведь не гнилая ещё, со всех сторон целая, и с исподу, я могу подписку дать… Крепкая изба.
— Им всё равно — крепкая, нет ли, у них свои планы, а на наши планы им наплевать, — вздохнула бабушка.