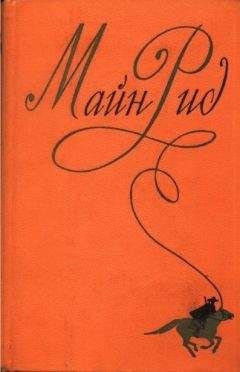Томас Майн Рид - Морской волчонок (с иллюстрациями)
Неудивительно, что мне хотелось как можно скорее покинуть узенькую нору и выйти на палубу. Но я рассудил все же, что следует преодолеть и жажду и боль в теле и остаться на месте.
Я знал, что по портовым правилам полагается выходить из бухты в море, имея лоцмана на борту, и если я сделаю глупость, показавшись на палубе, то меня доставят на берег в лоцманской шлюпке и все мои усилия и страдания пропадут даром.
Предположим даже, что лоцмана на корабле нет, — все равно мы ведь находимся на трассе рыбачьих лодок и маленьких каботажных судов.[27] Одно из них, идущее в гавань, может подойти к нам, меня сбросят на его палубу, как связку канатов, и доставят на сушу.
Вот почему я решил, что благоразумнее оставаться в своем убежище, несмотря на жажду и боль в суставах.
В течение часа или двух судно легко скользило по воде. Должно быть, погода была тихая и корабль находился еще в пределах бухты. Потом, как я заметил, он начал слегка покачиваться и плеск воды по бокам стал резче и настойчивее. То и дело слышались удары волн о борт и потрескивание шпангоутов.[28]
Но в этих звуках не было ничего неприятного. Как видно, мы выходили из бухты в открытое море, где ветер был свежее, а волны выше и сильнее. «Скоро лоцмана отпустят, — думал я, — и я смогу выйти на палубу».
По правде сказать, я не очень радовался предстоящей встрече с командой корабля — у меня были серьезные опасения на этот счет. Я вспомнил грубого, свирепого помощника и бесшабашных, равнодушных матросов. Они возмутятся, когда узнают, какую штуку я с ними сыграл, и, чего доброго, изобьют меня или как-нибудь еще обидят. Я не ждал, что они хорошо ко мне отнесутся, и с удовольствием уклонился бы от такой встречи.
Но уклониться было невозможно. Я не мог проделать весь рейс, сидя в трюме, то есть провести несколько недель или даже месяцев без еды и питья. Рано или поздно мне придется выйти на палубу и решиться на встречу.
Тревожась при мыслях об этой неизбежной встрече, я начал испытывать страдания уже не нравственного характера. И они были хуже жажды и ломоты в костях. Какая-то новая беда надвигалась на меня. Голова закружилась, на лбу выступил пот. Я почувствовал дурноту, сердце и желудок у меня как будто сжались. В груди и горле появилось такое ощущение, как будто мне вдавили ребра внутрь и легкие утратили способность расширяться и дышать.
Я ощущал тошнотворный запах затхлой воды, которая скопляется обычно в глубине трюма, и слышал, как она булькает под настилом, куда натекла за долгий срок.
По всем этим признакам нетрудно было определить, что именно меня беспокоит: это была морская болезнь, и ничего больше. Зная это, я не встревожился. Мне становилось плохо, как всякому, у кого начинается приступ этой странной болезни. Конечно, я чувствовал себя особенно скверно: жажда жгла меня, а воды поблизости не было. Я был убежден, что стакан воды облегчил бы мои страдания: тошнота пройдет, и я свободно вздохну. Я готов был отдать все за один глоток.
Страх перед лоцманом помогал мне крепиться довольно долго.
Качка становилась все резче, а запах воды в трюме все тошнотворнее. Дурнота и напряжение стали невыносимы.
«Наверно, лоцман уже уехал. Во всяком случае, я больше не могу терпеть. Надо выйти на палубу, иначе я умру! О!..»
Я поднялся и начал ощупью пробираться вдоль большой бочки.
Я обогнул ее и дошел до отверстия, через которое влез сюда. Но тут, к величайшему своему изумлению, я обнаружил, что оно закрыто!
Я не верил себе и ощупывал все кругом, водя руками вверх и вниз. Нет сомнений — отверстие заставлено!
Повсюду мои руки натыкались на отвесную стену, которая, насколько я мог судить, представляла собой боковую сторону огромного ящика. Ящик этот стоял как раз в промежутке между бортом корабля и бочкой и был поставлен настолько вплотную, что не осталось ни щелки, в которую я мог бы просунуть палец.
Я попытался сдвинуть ящик руками, напряг все силы, потом надавил плечом, но ящик даже не шелохнулся. Это был огромный короб, наполненный тяжелым грузом. Даже силач вряд ли сдвинул бы его с места, а с моими силенками нечего было и думать об этом.
Мне пришлось отказаться от этой попытки. Я двинулся назад вдоль бочки, надеясь выйти с другого конца. Но когда я достиг другого конца, мои надежды рассеялись, как дым. Даже руку нельзя было просунуть между знакомой мне бочкой и такой же соседней, которая заполняла собой все пространство вплоть до шпангоутов! Мышь не проскользнула бы между ними.
Я исследовал верхи обеих бочек, но так же безрезультатно. Там хватило бы места просунуть руку, но не больше. Между верхами округлых стенок бочек и громадным бимсом,[29] протянутым наверху поперек трюма, оставалось лишь несколько дюймов — даже при моем маленьком росте я не сумел бы проскользнуть в эту щель.
Предоставляю вашему воображению, что я почувствовал, когда убедился, что я заперт, пленен, замурован между грузами!
Глава XXI. ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЙ
Теперь я понял, почему ночь показалась мне такой длинной. Света было достаточно, но он не доходил до меня. Его закрывал большой ящик. Прошел целый день, а я этого не знал. Люди работали днем, а я думал, что это полночь. Не одна, а две ночи и целый день прошли с тех пор, как я спустился в свое убежище. Неудивительно, что я ощущал голод, жажду и боль во всем теле. Короткие перерывы в работе матросов наверху означали завтрак и обед. Длинный перерыв перед тем, как подняли якорь, означал вторую ночь, когда все спали.
Я вспомнил, что заснул сейчас же после того, как забрался в свой тайник. Это было за несколько часов до захода солнца. Я спал крепко и долго — без сомнения, до следующего утра. Вечером погрузка продолжалась, а я ничего не слышал. Находясь в глубоком, беспробудном сне, я не почувствовал, как проход загородили ящиком, да и не одним.
Теперь мне все было ясно, и самое ясное во всем этом — тот ужасающий факт, что я заперт, как в коробке.
Не сразу я понял весь ужас своего положения. Я знал, что заперт и что никаких моих усилий не хватит для того, чтобы выбраться наружу. Но я не боялся этих трудностей. Сильные матросы, которые поставили эти грузы, могут их и отодвинуть. Мне стоит только крикнуть и тем обратить на себя внимание.
Увы! Мне в голову не приходило, что мои отчаянные вопли вовсе не будут услышаны. Я не подозревал, что люк, через который я опустился на канате в трюм, был теперь плотно закрыт тяжелым щитом, что поверх щита была натянута толстая просмоленная парусина и что все это, вероятно, так и останется до конца путешествия. Если бы люк даже не был закрыт, и то меня не услышали бы. Мой голос затерялся бы среди сотен тюков и ящиков, пропал бы в беспрестанном рокоте волн, плещущих о борта корабля.
Вначале, как вы знаете, я не очень встревожился. Я думал только, что мне придется долго дожидаться глотка воды, в которой я так нуждался. Конечно, потребуется несколько часов работы, чтобы отодвинуть ящики и освободить меня. А пока что мне придется страдать. Вот и все, что меня беспокоило.
И только после того, как я накричался до хрипоты и вдоволь настучался в доски борта каблуками башмаков, так и не дождавшись ответа, — только тогда начал я вполне понимать свое подлинное положение, только тогда начал я оценивать весь его ужас, только тогда понял, что не сумею выйти отсюда, что у меня нет никакой надежды на спасение, — короче говоря, что я заживо погребен!
Я кричал, стонал, вопил.
Кричал я долго, не знаю точно, сколько времени. Я не переставал кричать, пока не ослабел и не выбился из сил.
В перерывах я прислушивался — ответа не было. Только мое собственное эхо прокатывалось по всему трюму. Но ни один человеческий голос извне не отзывался на мои стенания.
Теперь я понял, почему умолкли голоса матросов. Я слышал хор их голосов, когда поднимали якорь, но тогда корабль стоял на месте и вода не плескалась у бортов. Кроме того, как я узнал впоследствии, тогда люки были открыты, а закрыли их уже потом, когда мы вышли в море.
Долго я прислушивался, но до ушей моих не доходили ни слова команды, ни матросская речь. Если до моего слуха не долетали их громкие, густые голоса, то как же им услышать мой голос?
«Они не могут меня услышать! Никогда! Никогда никто не придет ко мне на помощь! Я умру здесь! Я непременно умру здесь!..»
К такому мрачному выводу я пришел, когда окончательно потерял голос и совершенно ослабел. Морская болезнь на время уступила место бурным порывам отчаяния, но затем физическое недомогание вернулось и, соединившись с душевными муками, повергло меня в такое страшное состояние, какого я никогда еще не испытывал. Долго я лежал беспомощный в полном оцепенении. Мне хотелось умереть. Я и в самом деле полагал, что умираю. Я серьезно думаю, что в ту минуту рад был ускорить наступление смерти, если бы это было в моей власти. Но я был слишком слаб, чтобы убить себя, даже если бы у меня имелось оружие. Впрочем, оружие-то у меня было, только я забыл о нем в своем смятении.