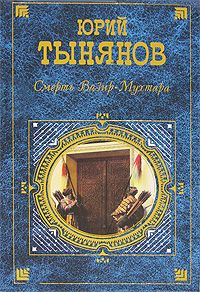Юрий Коваль - Пять похищенных монахов
– Я люблю природу, – говорил Тибулл, – потому что в природе много хорошего. Вот этот веник, он ведь тоже частичка природы. Другие любят пиво или кино, а я природу люблю. Для меня этот веник лучше телевизора.
– По телевизору тоже иногда природу показывают, – задумчиво возразил Тиберий.
– А веник небось не покажут!
– Это верно, – согласился Тиберий, не желая спорить с поэтом. – Давай за природу! – И древние римляне снова чокнулись.
– Как ты думаешь, для чего люди чокаются? – спросил через некоторое время Тибулл, как всякий поэт настроенный слегка на философский лад.
– Для звону!
– Верно, но не совсем. Когда мы пьем лимонад, это – для вкуса. Нюхаем – для носа. Смотрим на его красивый цвет – для глаза. Кто обижен?
– Ухо, – догадался Тиберий.
– Вот мы и чокаемся, чтоб ухо не обижалось.
– Ха-ха! Вот здорово! Ну, объяснил! – с восторгом сказал Тиберий и, сияя, потрогал свое ухо, как бы проверяя: не обижается ли оно? Но ухо явно не обижалось. Оно покраснело, как девушка, смущенная собственным счастьем.
Тибулл тоже был доволен таким интересным объяснением, с гордостью потер свою лысину, повел глазами по раздевальному залу, выискивая, что бы еще такое объяснить. Скоро взгляд его уткнулся в плакат, висящий над нами:
КОСТЫЛИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ У ПРОСТРАНЩИКА.
Плакат этот действительно объяснить стоило, и Тибулл, выпятив нижнюю губу, раздумывал некоторое время над его смыслом.
– Ну, костыли, это понятно, – сказал наконец он. – Если тебе нужны костыли, можешь получить их у пространщика. Но что такое пространщик?
– Да вон старик Мочалыч, – простодушно ответил Тиберий. – Он и есть пространщик. Простынями заведует.
– Если простынями – тогда простынщик.
– Гм… верно, – согласился Тиберий. – Если простынями, тогда простынщик.
– То-то и оно. А я, ты знаешь, люблю докапываться до смысла слов. А тут копаюсь, копаюсь, а толку чуть.
– Сейчас докопаемся, – пообещал Тиберий и крикнул: – Эй, Мочалыч, ты кем тут работаешь?
– Пространщиком, – ответил Мочалыч, подскакивая на зов.
– Сам знаю, что пространщиком, – недовольно сказал Тиберий. – А чем ты заведуешь?
– Пространством, – пояснил Мочалыч, краснея.
– Каким пространством? – не понял император.
– Да вот этим, – ответил Мочалыч и обвел рукой раздевальный зал со всеми его тронами, вениками, бельем, голыми королями. В худенькой невзрачной его фигуре мелькнуло вдруг что-то величественное, потому что не у всех же людей есть пространство, которым бы они заведовали.
Я невольно повел глазами, оглядывая пространство, которым заведовал Мочалыч, и вдруг резко похолодел.
Окутанный облаком пара, красный, ошпаренный, как рак, из двери мыльного зала вышел Моня Кожаный. Хлопая себя ладонями по животу, он развалился на троне рядом с Тиберием и Тибуллом. В глаза бросалась татуировка, наколотая у Мони на ногах.
На левой ноге написано было: ОНИ.
На правой: УСТАЛИ.
Именно эта надпись напугала в первую минуту. Что-то зловещее, загадочное было в ней. Я не мог понять, кто это – они? Неужели ноги?
Небрежно, двумя пальцами Моня приподнял тетеринскую простыню, брезгливо накинул ее на плечи, как бы сожалея, что она не кожаная, и оглядел зал. Глаза его от пара грозно выкатились к переносице, и буквы «Т.Б»., оказавшиеся у него под мышкой, хотелось прочитать так: «Типичный Бандит».
Кожаные брюки
Я так закутался в простыню, что уж не знаю, на что был похож со стороны. Изнутри же казалось, что похож я на мотылька или на червячка в коконе, который не собирается вылезать на белый свет. В узкую щелочку, которую я оставил для глаз, не было видно ни Тиберия, ни Тибулла, только надпись «Они устали» вползала, как змея, в поле зрения.
Судя по надписи, Кожаный сидел спокойно, ногами не дрыгал. В хлюпающем гуле, который наполнял баню, слышалось его хриплое, надсадное дыхание.
– Извиняюсь, дорогой сосед, я вам не мешаю? – сказал Тибулл.
Я испуганно выглянул из простыни, но тут же спрятался. Тибулл разговаривал с Моней.
– Я вам не мешаю, дорогой сосед?
Кожаный повел глазами, смерил поэта с головы до пят, как бы выясняя, мешает тот ему или нет.
– Пока не мешаешь, – членораздельно сказал он. – А будешь мешать – пеняй на себя.
– Нет! Нет! – воскликнул Тибулл, деликатно замахал руками. – Мешать я вам никак не собираюсь.
– И правильно делаешь, – заметил Моня.
– Но мне бы хотелось задать вам один вопрос, – продолжал неугомонный Тибулл. – Вот у вас на ногах написано: «Они устали». Интересно знать, от чего они устали?
– Слушай, Лысый, – отчетливо сказал Кожаный, – читай свои ноги!
– Но у меня на ногах ничего не написано! – наивно воскликнул древний поэт и, приподняв простыню, показал свои ноги, действительно белые, как лист бумаги.
– Ладно тебе, – вмешался Тиберий. – Наплюй ты на его ноги. Устали они, и ладно. Может, они много бегали. Почитай лучше, что у меня написано.
Тиберий скинул простыню и повернулся к поэту спиной. На левой его лопатке был нарисован бегун в трусах и в майке, а на правой синели два столба, между которыми тянулась надпись:
ФИНИШ.
Тиберий шевельнул лопатками – бегун сорвался с места, стремясь к финишу.
– У тебя это любовь к спорту, – сказал Тибулл. – А тут – разочарование в жизни. Этим ногам уже не хочется ходить по земле – они устали.
– Зато руки у меня не устали, – сказал Кожаный и, шевельнув плечами, сбросил простыню.
В узловатых, покрытых якорями и черными водорослями руках и вправду не было видно ни капли усталости. Моня поглядел поэту в глаза, расставил в стороны руки и пошевелил жутковато пальцами. Затем встал, проделал плечами какую-то угрожающую гимнастику и удалился в парилку, сказавши сквозь зубы:
– Пора погреться!
– Он мне, кажется, угрожал, – чуть заикаясь, сказал Тибулл.
– Успокойся, не обращай внимания.
– Я сейчас ему ноги переломаю! – сказал Тибулл, показывая желание встать.
– Ни в коем случае! – вскричал Тиберий. – Нас арестуют.
– Переломаю! – упорствовал Тибулл, но Тиберий схватил его за локти и не отпускал, пока поэт не успокоился. Наконец с мочалками в руках они ушли в мыльный зал.
– Надо действовать, – прошептал Крендель. Он высунулся из простыни и оглядел соседние кресла. Все они были пусты. Перегретый, с мокрым веником на голове, дремал. – Есть план, – сообщил Крендель.
Он вскочил и быстро прошелся по залу. Простыня болталась на нем, как плащ на мушкетере. Секунду Крендель кружил возле Перегретого, оглядывая его со всех сторон.
– Здорово перегрелся, – издали шепнул Крендель, подошел к трону, который занимал Кожаный, и поглядел на него с ненавистью, как на трон тирана.
Кожаная майка, брюки, жилет были беспорядочно разбросаны. Особенно беспорядочно выглядели брюки, которые нагло развалились на троне, свесив к полу пустые замызганные штанины. Хромовые колени вздулись волдырями, а снизу из-под брюк глядели ботинки с на редкость тупыми рылами на микропоре.
Заприметив Кренделя, брюки оскорбительно подбоченились, кажется собираясь повернуться к нему задом. Они явно бросали вызов.
«Ну чего тебе надо, переросток? – как бы говорили они. – Мы для тебя коротки».
Крендель вспыхнул, схватил пустую штанину и сдернул брюки с трона.
Брюки взвизгнули, раздулись, обхватили Кренделя, но он поднял их на воздух, напоминая укротителя питонов. Из кармана брюк вылетела трехкопеечная монета, брякнулась об пол и, радостно звеня, укатилась под трон. Брюки обмякли, а Крендель скомкал их и сунул в санитарный шкафчик, который висел на стене.
Закрыв дверцу шкафчика, он огляделся. Кажется, никто ничего не заметил. Мочалыч считал простыни. Перегретый безвольно шевелил босою пяткой.
– Теперь не уйдет, – сказал Крендель. – Начнет скандалить, а старик Мочалыч вызовет милицию. Пошли в парилку. Пора погреться!
Пора погреться!
Крендель почти не волновался. Странное спокойствие было в его тоне и голосе, неслыханное спокойствие, которое я бы назвал кармановским. Я же обливался холодным и горячим, совершенно московским потом.
– Это просто глупо, – говорил Крендель. – Быть в бане и не сходить в парилку. Не бойся, мы же голые. Голыми он нас ни за что не узнает.
Но мне казалось, что даже и голыми узнать нас нетрудно. Я шел к парилке боком и немного спиной, чтоб быть на себя непохожим.
В мыльном зале стоял пенный шум, который составлялся из шороха мочал, хлюпанья капель, звона брызг. На каменных лавках сидели и лежали светло-серые люди, которые мылили себе головы и терлись губками, а в дальнейшем конце зала, у окованной железом двери, топталась голая толпа с вениками и в шляпах.
Дверь эта вела в парилку.
Верзила в варежках и зеленой фетровой шляпе загораживал дверь.