Лев Гумилевский - Плен

Обзор книги Лев Гумилевский - Плен
Лев Гумилевский
Плен
Часть первая
Побежденные
Глава первая
Странное происшествие у стены Китай-города
В тот самый день, с которого начинается наша жуткая повесть, беспризорные обитатели Китайгородской стены вели себя необычно.
С утра в круглой башне, выходящей лицом на Москворецкую набережную, прохожие могли слышать смешанный гул не по-ребячьи охрипших и не по-детски перемешанных с бранью глухих голосов.
Затем, обыватели Мокринского переулка могли заметить, что в полдень не значившиеся в домовых книгах Зарядья жильцы каменных развалин не исчезли, как всегда, в поисках пищи. Они не сновали мимо лотков и палаток, подкарауливая зазевавшегося продавца, они не клянчили у прохожих копеечек и равнодушно пропускали одиноких барышень с сумочками в руках.
В то утро, покинув бескрышую башню, обитатели раскаленного камня с быстротой ящериц выползли из щелей, промелькнули тенями по стене, скатились по обрывкам ее у Проломных ворот на землю и заняли узенькие тротуары Псковского переулка. Если бы кому-нибудь из прохожих или проезжих, сновавших взад и вперед через дряхлые ворота, пришло в голову присмотреться к полудюжине беспризорных оборванцев, болтавшихся под ногами, от него не укрылась бы, вероятно, подозрительная поспешность, с которой они уступали дорогу.
Приглядевшись к чумазым рожицам маленьких бродяг, он, конечно, заметил бы и взволнованный блеск вороватых глаз и не по-детски насупленные брови.
Прислушавшись же, он несомненно заинтересовался бы обрывками фраз, которыми обменивались ребятишки.
— Не видать?
— Нет.
— А вон тот не годится, а?
— Не стоит.
Все они неизменно, как подсолнечники к солнцу, оборачивались к длинному тощему мальчугану, таинственными знаками распоряжавшемуся своей небольшой шайкой.
— Коська, а это ничего?
— Что? — обрывал он.
— Что за это будет, а?
— Все то же. Дальше приюта не поведут.
— Это я знаю.
Наконец, если бы тот же охочий прохожий посторожил несколько минут тут же за углом, он увидел бы, что ребята не одни так странно забавляются у Проломных ворот. Они то и дело переглядывались и пересвистывались с кем-то, поставленным на страже. Коська нередко угрожал этим часовым довольно-таки внушительным кулачком.
По этим знакам можно было легко проследить и сообщников маленьких бандитов, лежавших на самой стене.
Но грязные, оборванные мальчишки давно уже перестали привлекать внимание суетливого москвича. Барыни с саквояжами и модные дамочки с ридикюльчиками, наоборот, стараются их обходить за два квартала: предосторожность не лишняя, когда проходишь с пузатой сумочкой на глазах у десятка оборвышей.
И у Проломных ворот не нашлось прохожего, пожелавшего присмотреться к маленьким бандитам, толпившимся на тротуарчике и поглядывавшим сторожко по сторонам. Никто не заметил, таким образом, и загадочных знаков, которыми они обменивались с ребятами, дежурившими на самой стене.
Там было их двое. Широкая стена за четыреста лет своей жизни, накопила на каменном хребте немало пыли и грязи. Весной здесь цвели уродливые деревца, а корявые яблони могли даже выращивать плод. В шестигранные бойницкие окошечки наружной стены была видна Москворецкая набережная и проход в ворота. С внутренней же стены, облепленной пристройками, погребками и сарайчиками дворов Мокринского переулка, был виден Псковский переулок. На стене, широкой, как полевая дорога, поросшая цветами и сорными травами, лежали, изнывая от зноя, маленькие сторожа.
Солнце жгло их невыносимо. Красно-медные руки и ноги их темнели, как многовековая бронза. Груди их в ворохе грязного тряпья обмывались потом. Воспаленная тряпьем, насекомыми и солнцем кожа саднила.
Они задыхались.
Следя за набережной в узкое окошко, загадочный часовой с завистью поглядывал на мутные воды Москва-реки. Товарищ же его, лежа на животе, упрямо смотрел на прохожих, на подававших снизу знаки ребят.
— Жгет? — не выдержал, наконец, равнодушия товарища первый, — слышь, а?
— Жгет! — подтвердил тот.
— Искупаться бы всей оравой!
— Да, ничего б!
Он зевнул, перевернулся на спину и перестал переглядываться с нижними. Другой сердито оторвался от бойницкого окошечка:
— Ты что ж?
— Все равно зря.
— Почему зря?
— Не выйдет ничего.
Второй присмотрелся к равнодушному товарищу с любопытством;
— Это почему ж?
— Народ кругом.
— Как же? Бросить все?
— Зачем же, раз постановление было. Только это ночью надо. Столько много народу! Как крысы в амбаре. И чего шляются…
Снизу резко донесся предостерегающий свист. Мальчишка прижался к окну. Лежавший оглядел переулок и приложил было пальцы к губам, забрав в легкие воздух для ответного свиста, но тотчас же опустил их и лег на траву. Стоявший у окна огрызнулся.
— Смотри, Пыляй. Отдерет тебя Коська…
Пыляй лениво приподнялся и снова лег. Запах пыльной травы, каким-то чудом выросшей здесь на камнях, щекотал ему нос. Он чихал, сотрясаясь всем своим телом, и снова ложился лицом на траву. С этим запахом пыли и зелени вставали перед ним смутные воспоминания: точно в деревне, у пыльной дороги, под телегой вместо полога. Отец где-то косит; рядом хрустит подорожником стреноженная лошадь. Солнце печет; в знойном воздухе каждый взмах косы кажется ветерком и в тени худой телеги прохладно, как в лесу.
— Пыляй, стерва, слышишь?
Он прослушал условный свист и встрепенулся. Но с Москворецкой мчался автомобиль, и снова вопросительный свист снизу остался без ответа.
Дежуривший у каменного окошечка отвернулся со вздохом.
— Как вши на рубахе, народ. Гляди, прет отовсюду.
— Я и сказал…
— Что ты сказал?
— Что нельзя тут воробья словить, не то что… У всех на глазах.
Зной томил, расслаблял, и говорили оба лениво, насильно ворочая языком. Едва ли они придавали значение тому, что говорили. Слова не добирались до сознания, как легкий ветерок не освежал раскаленных тел.
Пыляй уткнулся в траву. Со звериной жадностью он внюхивался в зелень, силясь отличить чистый запах ее от сырой плесени дряхлых кирпичей.
— Если бы я в деревне был, — не поворачивая головы к товарищу, проворчал он, — хозяйствовал бы теперь. Если бы отец дому не спалил, никуда бы не ушел.
— Как спалил? Нарочно?
— Нет, так. Матка умерла. Он стал хлебы печь и избу сжег. И руки сжег. Чай, помер давно.
— Жалко?
— Себя жальче.
— Гляди, гляди. Коська чевой-то…
Пыляй неохотно ответил на вопросительный знак костлявого мальчишки, распоряжавшегося остальными.
— Столько много народу… Вот так матка, бывало, решето снимет с печки и стукнет им о пол, тараканы из него и поползут… Во все стороны! Тогда кур только кликнуть — враз всех перехватают.
Пыляй мечтательно закрыл глаза.
— Родилась бы такая птица, чтобы людей глотала. Пустить бы ее сюда… Пусть всех подобрала бы.
— И тебя тоже.
— Меня?
Он приподнялся от неожиданного вопроса и, подивившись странному обороту дела, спокойно шлепнулся назад:
— Врешь, меня не за что!
— А в Туркестане, которых спалили, было за что?
Пыляй поднял голову и молча посмотрел на товарища, дожидаясь пояснения. Тот угрюмо отвернулся к стене и пробурчал:
— Не слыхал? А я знаю, потому что сам был в тех местах поблизости и чуть мы с Коськой сами ушли. Нашего брата ребят переловили на базаре в Ташкенте сарты, заперли в сарай и подожгли. Сожгли может полста, а может и больше.
Пыляй вздрогнул.
— За что?
— За воровство, мало ли за что. За что вшей бьют? На них тоже вины нет.
Пыляй опрокинулся на спину, слабея от зноя и странного холодка в сердце, напоминавшего предсмертную слабость и тревогу.
— За это бы спалить их самих всех…
Гнев растопил холод тревоги, и он добавил уже с теплотой:
— То люди, Ванюшка, а я про птицу говорил, Людям может и так, а птице я не мешаю. Птица меня не тронет. И пусти меня в лес, чтобы волков и медведей было полно, а я не боюсь. От медведя лучше всего мертвым притвориться, а от волка, хоть на дерево залезть.
— Врешь ты все. Гляди лучше, ну?
Пыляй посмотрел вниз, покачал головой и раздраженный беспрерывно беспокоящими снизу свистками, сел на корточки.
— Говорю, что ничего не выйдет!
— Ты бы с Коськой поговорил!
— И поговорю…
— Посмотрим.
Они отвернулись друг от друга. Пыляй подумал и снова лег, вытягиваясь удобнее и покойнее. Поток пешеходов дал им возможность ослабить внимание. Ребята внизу сбились в кучу и совещались о чем-то, Ванюшка потянулся, разворотил на шее ворох тряпья, открывая грудь слабому ветру, и заметил с досадой:

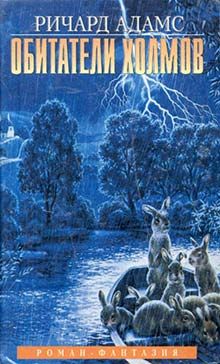
![Абрахам Меррит - Обитатели пропасти [Племя из бездны/Обитатели бездны]](/uploads/posts/books/75670/75670.jpg)
