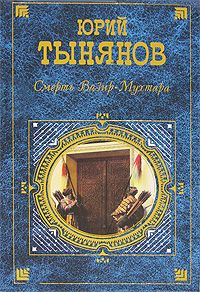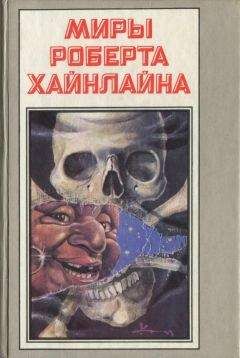Леонид Сотник - Экзамен
— Сейчас всем нужно оружие. Особенно купцам. Купец — лакомая добыча для налётчиков. — Перс ласково погладил по русым вихрам Мишу.
Перс ушёл, а отец с сыном, ещё долго сидели за столом при свете мигающей лампы и думали каждый о своём. Даниила Аркадьевича страшила весть о близящемся перевороте. При всей своей кажущейся нейтральности он прекрасно понимал, что мятежники не станут миловать своих противников. В этом его убедили жесточайшие расправы семеновцев с рабочими Пресни в 1905 году. Ему, тогдашнему студенту Московского, университета, довелось всё это увидеть своими глазами.
А Миша думал о персе. Странный человек. Изысканно вежливый, почтительный, прекрасно образованный, немножко по-восточному таинственный… А вот добрый ли? Папа говорит, что Абдурахман Салимович — человек добрейшей души, а Миша в это почему-то не верит. Может быть, потому, что перс скрытен, потому, что он каждый ответ свой взвешивает, как в лавке имбирь? Но скрытность не отрицает доброты. Перс предупредил о грозящем перевороте, а значит, совершил тем самым доброе дело, но Миша так и не понял, как сам перс относится к грядущим событиям: радуется он мятежу или боится его? Да, странный человек этот мелкий торговец из иранского города Мешхеда.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
Астрахань. Тревожная ночь
Ни Мише, ни его отцу уснуть той ночью так и не довелось.
Около полуночи пришёл с запиской приказчик Абдурахмана Салимовича и потребовал отдать ему сундук. Даниил Аркадьевич поколебался, но, убедившись в подлинности записки, сундучок отдал и даже помог взвалить его на спину посланцу.
Ещё через час прибежал Колька Портюшин и, размахивая старым «смит-вессоном», призывал граждан обывателей выступить на защиту революции. Миша с радостью улизнул бы из дому, но отец воспротивился и чуть не дал «пролетарскому дитяти» затрещину. Не менее решительно он отобрал у Кольки револьвер и усадил его пить чай.
Из рассказов Кольки стало ясно, что «Маркевич жмёт», что «гидра окружила Совет», что красноармейцы и рабочие отряды отступают на окраины города, и если не случится чудо, то Астрахань падёт. И тут Миша почему-то впервые позавидовал Кольке. Причастность или непричастность к событиям у них с соседским мальчишкой была одинаковой, но тот воспринимал сами события как своё, кровное. Колька твёрдо знал, кто друг, а кто враг, как знал и его отец, который с винтовкой в руках сражался этой ночью против мятежников. А кем были для Кольки Миша и его отец? Растерявшиеся обыватели… И когда Колька, напившись чаю, ушёл, Миша сказал, краснея и пугаясь своей смелости:
— Мы с тобой, папа, наверное, плохие люди.
— Это почему же? — сдвинул на лоб очки Рябинин-старший. — Ты что этим, Мишук, хочешь сказать?
— Мы плохие люди, — упрямо повторил Миша. — Мы с тобой, папа, никакие. Понимаешь, никакие.
— Не понимаю, — побагровел учитель, — не понимаю.
— Ты говоришь, что анархисты — это неприлично. А кадеты — это прилично? А Маркевич — это прилично?
— Михаил! — вскочил Рябинин-старший. — Перестань немедленно! Как ты смеешь… с отцом… — Он прижал ладони к горлу, что было признаком сильнейшего волнения, и застыл так посреди комнаты, высокий, нескладный, растерянный.
Мише стало жаль отца.
— Ладно, папа, — сказал он примирительно, — не будем спорить. Давай лучше спать.
Разобрали постели. Задули лампу. Миша лежал тихо, широко распахнув глаза во тьму, и слышал, как скрипят под отцом пружины.
— Ты спишь, Михаил? Нет, сын, нет, — чуть слышно бормотал Рябинин-старший, — кадеты — эта не только неприлично, это отвратительно. Ты слышишь, Михаил? Нет, он не слышит…
Перед самым рассветом кто-то властно забарабанил в ставню и голосом хриплым и нетерпеливым приказал:
— Открывайте.
Даниил Аркадьевич свесил босые ноги с постели и принялся искать шлёпанцы. Они всегда стояли на маленьком коврике, подаренном однажды персом в день рождения, но дрожащая рука учителя шарила почти рядом со шлёпанцами, не касаясь их.
— Куда же они задевались? Ну куда? — бормотал растерянно Даниил Аркадьевич. А удары в ставень становились всё громче и настойчивее.
— Я сам открою, — вдруг решительно сказал Миша. — И не стоит волноваться, папа, ведь ничего страшного пока не произошло.
Не спрашивая разрешения, он толкнул дверь в сенцы и спросил срывающимся голосом:
— Кто здесь?
— Открывайте, — послышалось с ответ. — Не откроете — дверь взломаем.
— Зачем ломать? Но если вы, господа, приходите ночью, то нужно хотя бы представиться.
Грохот в сравню прекратился, видно, владелец увесистых кулаков размышлял над услышанным. Выдержав паузу, он спросил, не скрывая издёвки:
— Господа, говоришь? Представиться, говоришь, надо? — И добавил почти нежно: — А я вот суну тебе под дверь гранату — и всё представление. Так откроешь или нет? Именем революции!
Миша понял, что упираться бессмысленно, и отодвинул тяжёлый засов. Первую секунду он ослеп от луча карманного фонарика. Кто-то грубо отодвинул его в сторону, мимо прогрохотали чьи-то сапоги, послышался звон шпор и лязг оружия. В нос ударил запах пота, армейской кожи, пороха, махорки и конского помёта.
— Проходите, товарищ командир, здесь, кажется, никого нет.
Когда Миша возвратился из коридора в комнату, там уже горела керосиновая лампа, и при её свете он мог разглядеть двух увешанных оружием людей в гимнастёрках, в фуражках солдатского образца с красными звёздочками.
— С кем имею честь, господа?
Даниил Аркадьевич стоял возле стола, по-офицерски выпятив грудь, и чувствовалось, что первый страх прошёл и что душа старого учителя уже успела наполниться гневом и презрением к силам вторжения.
— Господ здесь нет, — спокойно, без всякого раздражения сказал один из вошедших. — А без особой нужды никто бы к вам ломиться не стал. — Он опустился на стул и закончил совсем буднично: — В городе белогвардейский мятеж.
— Так что же вам угодно? Мы с сыном к вашим белогвардейцам не имеем никакого отношения.
— Будем надеяться. — Незнакомец снял фуражку и провёл устало ладонью по волосам.
Только сейчас Миша смог разглядеть его лицо: слегка скуластое, с монгольским прищуром глаз. Это был ещё не старый, но смертельно уставший человек. Мише даже показалось, что вот сейчас незнакомец положит голову на свои огромные и чёрные, как уголь, ладони и сразу же уснёт мёртвым сном. А ночной гость между тем продолжал:
— У нас есть сведения, что в этом районе скрываются участники мятежа. Уж не взыщите, придётся дом обыскать.
— У вас есть ордер на обыск? — взвился Даниил Аркадьевич.
— Ордера нет…
— Ордера ему захотелось, — вмешался вдруг спутник скуластого, и Миша сразу же узнал голос человека, барабанившего в окно.
— Может, цього ордера захотив?
Тускло блеснула сталь маузера, и тогда вновь подал голос скуластый:
— Кравченко, спрячь оружие. — Проследив, как пистолет улёгся в деревянную кобуру, он продолжал тем же ровным и усталым голосом: — Извините, товарищи… Что касается ордера, так его и в самом деле нет, а что касается права на обыск, такое право имеется. Я комиссар Тургайского края Джангильдин. Вот мой мандат.
Даниил Аркадьевич неспешно надел пенсне, развернул удостоверение и почти по слогам, словно выискивая ошибки, прочёл:
— «Предъявитель сего тов. Алибей Джангильдин назначается военным комиссаром Тургайской области. Предлагается всем лицам и учреждениям оказывать тов. Джангильдину полное содействие при исполнении им служебных обязанностей.
Член Народного комиссариата по военным делам
Юренев
Секретарь
Бойкое
Делопроизводитель
Павлов.
Москва. 14 мая 1918 года».
— Этого достаточно? — спросил Джангильдин.
— Вполне, — примирительно буркнул Даниил Аркадьевич. — И всё же, знаете ли, ночью… Вам не кажется, что вламываться ночью в чужой дом не очень этично?
— Кажется. Но мы не виноваты, что Маркевич избрал именно это время суток для своих наиболее активных действий. Да вы не беспокойтесь — мы здесь не задержимся… Кравченко!
— Слушаю, товарищ командир.
— Осмотрите помещение.
— Есть.
И пока исполнительный Кравченко с усердием на розовом молодом лице заглядывал под кровати, в чуланы и комоды, Джангильдин сидел за столом, тяжело опустив голову на стиснутые кулаки, и молчал, полузакрыв глаза. Он даже не заметил, как в комнату без стука вошёл красноармеец и застыл у порога.
— Разрешите доложить? — спросил он тихо, точно боялся вспугнуть думы командира.
— А, это ты, Макарыч… Наконец-то. Ну, что там нового? — Джангильдин стряхнул усталость, полез в карман за кисетом. — Да ты садись, вижу, что еле на ногах держишься.
Вновь прибывший грузно уселся на стул, так что половицы скрипнули, и, разгладив чёрные с проседью усы, принялся неторопливо докладывать: