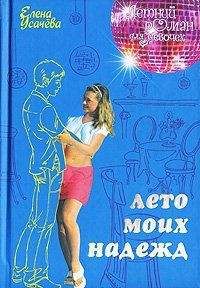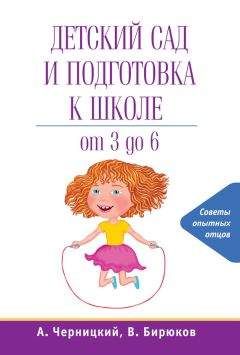Елена Зайцева - Тупэмо
— А к врачу вы почему не обращались? — спрашивает она — больше у меня, чем у родителей.
— Да я уж выздоровела! — говорю я. И это правда. Вирус отступил так же стремительно, как и напал, я уже вчера чувствовала себя нормально.
— Выздоровела, а в школу не ходила, — внимательно смотрит на меня бабушка. — И с собакой мама гуляла…
Мама, конечно, пожаловалась, как намучилась с Пуфиком. До работы — веди, после работы — веди, да ладно бы ещё веди, а то ведь несись за ним со скоростью света… Дурной всё-таки пёс. Это только в кино слабоумного пса всю его слабоумную жизнь на руках носят. Смотрели «Марли и я»? Собака съела телефон — ах какая необыкновенная собачка! Но необыкновенность разная бывает. Пусть чудо-собака играет на кларнете, а не ест телефоны… Это я бабушке пыталась рассказать, пока она кофе пила.
— Какая ты!.. — усмехнулась бабушка.
— Трезвый взгляд на вещи характерен для её психотипа, — уточнила мама.
— Это что-то новенькое. После «повышенной сенситивности»… — Бабушка не верит маминым заключениям. Не то чтобы она не верит в мою тонкость или «трезвость», нет. Она иронизирует над мамиными формулировками. Несправедливо, мне кажется! Ведь мама специалист, что тут странного?
Вот почему мама продолжала выгуливать Пуфика: чтобы я не встречалась с ними. У меня даже появилось чувство, что я действительно видела их очень и очень давно. И ещё в этом «с ними» было что-то опасное, так это звучало, — как будто это какие-то зловещие «они», а не просто Веснуха-Курыч-Налим… В школе я тоже отчасти поэтому не была. Отчасти, понимаете? Это не вся причина, а только её часть. Другая часть — всё-таки есть смысл пересидеть пару деньков дома, перестраховаться — а вдруг снова температура?
Мы, не сговариваясь, ничего не говорим бабушке о моих «изменениях в личной жизни». Что я теперь одна, без «тупэмо». Но бабушка как будто что-то чувствует. И уже в дверях, придерживая рвущегося и скулящего Пуфика, спрашивает:
— Ну а как дела с любовью и дружбой? Что-то ты молчишь… Лена, — обращается она уже к маме, — как там её референтная группа, так это, кажется, называется?
Маму передёргивает. Пуфик так работает лапами, что сбивает коврик, и бабушка, вздыхая, открывает дверь. Напоследок она смотрит на меня каким-то особенным взглядом, как будто всё-таки хочет прочитать где-нибудь на мне, как же у меня дела с этой самой референтной группой! И опять она несправедлива. Что-то я не помню, чтобы мама при мне так их называла! Точнее, помню, но мама не со мной разговаривала. Не со мной и не с бабушкой. Она разговаривала с таким же специалистом, как сама, со своей подругой, с которой на психолога училась, с Натой Валерьевной. «Негативная референтная группа», «позитивная референтная группа» — диковато, конечно, — на первый взгляд, — но если хотя бы немного подумать, разве странно? Когда два специалиста разговаривают…
Бабушка ушла, а мама как-то… не повеселела. Взялась разбирать аптечку.
— Да я действительно уже не болею! — говорю. — Завтра в школу.
— Да нет… Давай-ка не завтра…
— Всё равно я с ними рано или поздно встречусь! Как встретимся — так и разойдёмся, вот тоже, делов-то… — На самом деле я, конечно не думаю, что всё так просто. Но кое-что я уже подрассчитала («Какая ты!» — сказала бы бабушка.). Вот, скажем, Веснуха. Ведь не она за мной бегала, а я за ней. Получая от неё мычание да молчание попеременке. А вот теперь не подойду. И сяду на самую заднюю парту у стенки, она пустая, и стул за ней только один свободный, другой какими-то методическими материалами испокон веков завален. Дальше, Налим: в школе я его не встречу, а вне школы… мы с ним и «по ходу дружбы» парой слов не обмолвились, так что и менять-то особенно нечего. Остаётся Курыч. Его я бы тоже не встретила, я в «А», он в «Б», я этих бэшек днями не вижу, и его бы не встретила, если бы… если бы он не пришёл. Но он придёт! Да, придёт. И вот тогда будет мне, «делов»… «Неуравновешенный мальчик, невротик»!
— Ты когда-нибудь слышала о таком правиле? Врачи сами себя не лечат… — вдруг говорит мама. И тон у неё такой… вводный. Подготовительно-ознакомительный. Мне даже немножко смешно становится. Так и хочется сказать: да брось ты, мам, говори как есть, не надо меня подготавливать!
— И семью свою стараются не лечить. Потому что теряется объективность. И это не только врачей касается. Все мы не вполне объективны, когда дело касается наших близких… — продолжает мама, катая по аптечке, как мяч, резиновую грушу. — На завтра я договорилась с Натой Валерьевной…
— О чём договорилась?
— О том, чтобы она с тобой… пообщалась.
Пообщалась?! Знаете, когда мама так говорит? Когда работает. Я не раз это слышала — и видела: встречает родителей какого-нибудь неуёмного детёныша («гиперактивного» говорит мама) — и общается с ними, общается. Говорит и говорит, а её слушают и слушают. А что им остаётся делать, когда их сын или дочка продолжают мочить штанишки или лупят всех без разбору палкой по голове? Но со мной-то зачем общаться?
Ната Валерьевна приехала ближе к обеду, но обедать наотрез отказалась. «И это правильно», — подумала я. Какой обед, когда ты на пару размеров больше, чем надо? Ну, это я преувеличиваю, конечно. У неё даже талия была… В смысле — есть. На талии какой-то сложный, очень яркий ремень. Да и вообще вся она — яркая и сложная. Только… наступательная какая-то.
— Ты всё ещё рисуешь? — спросила она. — Мама говорит, что рисуешь…
Мама была на работе (она сказала, что так даже лучше, что иначе бы она мешала), папа в контору уехал, Валерьевна прямиком в мою комнату направилась.
— Где у тебя любимое место? Где ты обычно сидишь? — спросила она. Я любила сидеть у себя на кровати, поджав ноги, что и продемонстрировала. Валерьевна подтащила стул и села напротив.
— Скажу тебе откровенно, у меня не очень много времени. Это не значит, что мы должны торопиться. Но мы ни в коем случае не должны топтаться на месте. Я буду задавать тебе вопросы, а ты отвечай, хорошо?
— Хорошо, — киваю я.
— Ты знаешь, почему мама попросила меня приехать?
— Мм… — замычала я в раздумье, но Ната, на удивленье быстро, ответила сама:
— Знаешь. Хорошо. Как зовут этого мальчика?
— Курыча?
— Вы так его зовёте? Хорошо, Курыч. Как часто Курыч встречается с этим… узбеком?
— Но он…
— Оксаночка, мы ни в коем случае не должны топтаться на месте, помнишь, да?
— Но он не встречается!
— Уже нет? А где это происходило?
— Не… — пытаюсь протестовать я, но Ната тоже протестует:
— Я поняла, поняла. Поняла, что сейчас уже не происходит. Я имею в виду, где это происходило раньше? ШТАБ — было у вас такое? Это в штабе происходило?
— Да ничего и не происходило! — возмущаюсь я. — Вы… вы не то говорите! Он не знал этого узбека! В первый раз видел!
— А ты — видела?
— Нет!
— А вообще — часто к вам взрослые приходили?
— Нет!
— Нечасто… Как ты разнервничалась! Сядь, сядь, как ты сначала сидела. Что же произошло?.. — Это она не у меня спрашивала, а как будто задумалась вслух, а про меня просто забыла. Мне совсем уж неприятно стало. Я слезла с кровати и пошла чаю налить.
— Ты куда? — удивилась Валерьевна.
— За чаем, — говорю.
— Ты уходишь от разговора.
— Я ухожу за чаем…
Я не ребёнок, я понимаю, о чём спрашивает Ната, и мне становится страшно и обидно. Страшно — потому что я вдруг представляю тот штаб, о котором она говорит. Тот, где мы бы встречались с какими-то взрослыми и чёрт знает чем занимались бы. А обидно… обидно оттого, что я не могу объяснить: Курыч, в общем-то, о хороших вещах говорил. Как это теперь объяснишь?
И я решаю объяснить хотя бы то, что можно. Отхлёбываю чай и неожиданно спокойно, даже твёрдо, говорю:
— СО МНОЙ ВСЁ В ПОРЯДКЕ. В ТОЙ КОМПАНИИ СО МНОЙ НЕ ПРОИСХОДИЛО НИЧЕГО ПЛОХОГО, НО МНЕ БОЛЬШЕ НЕ ХОЧЕТСЯ ИМЕТЬ С НИМИ НИЧЕГО ОБЩЕГО. ПРОСТО МЫ СЛИШКОМ РАЗНЫЕ. Я ТАК РЕШИЛА.
Ната смотрит на меня с удивлением. Но это… уважительное удивление, я вижу, что ей понравилось! Ещё буквально полминутки она сидит, удовлетворённо поджав губы, как будто боясь выронить из клюва что-то вкусненькое, а потом начинает быстренько собираться («Я же говорила, у меня совсем мало времени. Мне ещё к маме твоей забежать…»).
Ната ушла. Мама-папа не пришли, Пуфика нет (что-то вроде привычки таки успело образоваться!), и только я надумываю от души поскучать, как в дверь звонят. Кто? Веснуха! И так упорно, просто сумасшедшим каким-то образом!
Открываю. Вид делаю недовольный, такой, чтобы дураку было понятно, что «не кантовать». Но как же! Дураку-то, может, и понятно, но не Веснухе!
— Выходи, — говорит, глядя на свои сапоги. Такое впечатление, что она какому-нибудь из них, левому или правому, это говорит. И… горбатая какая-то, не пойму, что такое…