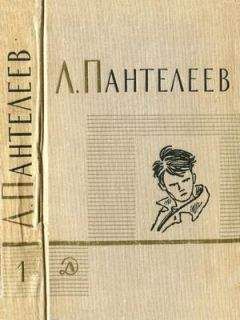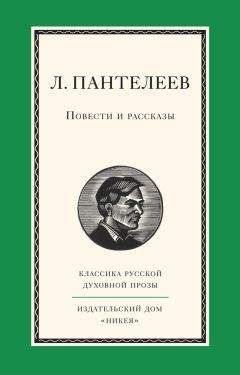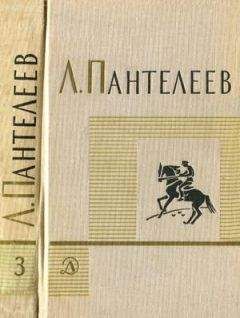Полиен Яковлев - Первый ученик
— Что? — спросил Медведев.
— Ничего… Так…
— Скучаешь?
Коля удивился. Как Медведев мог угадать его настроение? Однако не признался и сказал грубовато:
— Разве у меня на лбу написано?
— Конечно, написано. На всей морде написано. Фасонишь, а потом бродишь один, как…
— Как кто? — насторожился Коля.
— Как пустынник библейский.
— Пустынник и медведь, — показал Самоха на Амосова и Медведева. Все засмеялись.
— Эх ты, — довольный своей шуткой, улыбнулся Самоха и добродушно добавил: — Был бы ты, Коля, как все, а то… И чего ты такой, Амосик?
— Какой — такой? — пожал плечами Коля. — Это вы все от меня сторонитесь, а я вовсе и не думаю…
— Да, в месяц раз ты бываешь хороший, — откровенно заметил ему Корягин и, схватив обеими руками за пояс, спросил:
— Поборемся?
— Поборемся, — засмеялся Коля, стараясь незаметно высвободиться из рук Корягина, — только подожди, не сейчас, в другой раз…
— Через сто лет? Да?
— Через двести, — отшучивался Коля, все еще стремясь отстранить от себя цепкие пальцы Корягина.
— Эх ты, — продолжал добродушно шутить Корягин. — Эх ты, курица… Скажи, на следующей перемене играть с нами в разбойников будешь?
Коля обрадовался, хотел сказать: «Буду», но в это время в конце коридора показался Швабра.
— Будешь? — повторил вопрос Корягин.
— Не знаю… Да… Нет… — смутился и покраснел Коля. — Пусти, не держи меня…
А Корягин, заметив Швабру, нарочно еще крепче ухватился за Колин пояс. Коля не хотел показать виду, что боится начальства, однако не совладал с собой и рванулся так, что его пояс остался в руках Корягина.
Все захохотали, а Коля, окончательно растерявшись, вырвал из рук Корягина свой черный лакированный пояс, еще гуще покраснел, подпоясался и, одергивая на себе блузу, быстро засеменил по коридору. Услышав за собой звонкие шаги Швабры, он поспешно раскрыл учебник и зашептал:
В тот год осенняя погода
Стояла долго на дворе…
Стояла долго на дворе…
«ЕЩЕ ОДНО ПОСЛЕДНЕЕ СКАЗАНЬЕ…»
Урок шел, как всегда: Швабра наводил страх, ученики прятали головы в плечи, тайно крестились под партой, шептали:
— Господи… Не дай бог вызовет, окаянный…
Не тревожился один Самохин. Он мирно сидел, развернув перед собой книгу, и от скуки читал слова наоборот:
— Адогоп яяннесо дог тот в…
Слова показались красивыми.
Он так увлекся своим занятием, что даже не услышал, как Швабра вызвал его к доске.
— Самохин! Что, вас по двадцать раз приглашать?
— А? — вскочил тот. И, сообразив, наконец, в чем дело, испуганно пошел к доске.
— Стихотворение выучили? — брезгливо спросил его Швабра.
— Да, — коротко ответил Самохин.
— Воображаю… это было бы удивительно. Очень даже было бы удивительно. Так-с, так-с, так-с… Ну-с… Глагольте… Поражайте нас.
Самохин знал стихотворение еще с прошлого года. На тройку, во всяком случае, мог бы ответить, и уже открыл было рот, как Швабра перебил его.
— Ждем, — сказал он, — горим нетерпением. Отверзайте уста. Изрекайте.
«Еще не начал, а он уже издевается, — с обидой подумал Самохин. И почувствовал, как гневом наполнилось сердце. Решил: — Я ж тебе изреку!»
И сказал:
— Адогоп яяннесо!
— Как? — остолбенел Швабра.
— Извините, я нечаянно… Я… Надо было сказать «осенняя погода», а я… А я, наоборот, с другого конца произнес…
Подобной дерзости Швабра не ожидал. Он до того взбесился, что даже не знал, что сказать. Побледнел и дрожащей рукой вывел в журнале жирную единицу.
— Вы!.. Ты!.. Явишься после урока в кабинет Аполлона Августовича!
И вдруг, потеряв самообладание, Швабра взвизгнул:
— Марш на место!
Потом тише и спокойней:
— Уу! Остолопина!
Все съежились. Ждали, что будет дальше.
Самоха переглянулся с ребятами и пошел к своей парте.
«Уж если теперь вызовет, — с ужасом думал каждый, — добра не жди».
Но Швабра больше никого не вызывал. Он не то что спрашивать, даже дышать спокойно не мог. Тигром бегал от доски к кафедре и обратно. Вдруг схватил мел, повертел-повертел его в дрожащих руках и с гневом швырнул на место. Прикусил губу, задумался. С треском захлопнул журнал, сел и уставился на класс.
Долго смотрел, как удав на кроликов.
Кролики окаменели…
Удав молчал…
И если бы не звонок, кто знает, чем бы все это кончилось.
А к концу перемены Самохина действительно вызвали в кабинет директора.
Подтянув пояс, Самохин высморкался и пошел, но Корягин решительно воспротивился.
— Нет, — строго сказал он, — так мы тебя не отпустим.
Он быстро собрал ближайших друзей Самохина, суетливо расставил парами и скомандовал тихо:
— Хор, вперед… Ре… ля… фа…
И вдруг гимназия огласилась дикой и жалобной песней, давно еще сочиненной Самохиным для будущих поминок Швабры:
Грохотал на небе гром,
Тучи мчались кувырком,
Волк протяжно завывал,
Швабра с ведьмой пировал…
Тихо плакал домовой…
Со святыми упокой!..
— Попочка! — крикнул кто-то. Все шарахнулись, кто куда, и рассыпались по коридору.
Лишь Самохин не побежал. Он подумал, почесал затылок и покорно поплелся один.
У роковых дверей он еще раз подтянул пояс, остановился и постучал.
— Войдите.
Робко приоткрыл дверь и очутился лицом к лицу с его превосходительством Аполлоном Августовичем.
— Ага… — протянул директор. — Это ты…
— Я… Самохин Иван…
— Вижу-вижу. Стань-ка вот здесь, — указал директор на свободный простенок в своем кабинете. — Постой-ка пока в углу.
И обратился к широкоплечему мужчине, рядом с которым стоял незнакомый Самохину рыжеволосый гимназист.
— Видите ли… Бумаги вашего сына, конечно, в порядке, но…
— Нет, уж вы примите его, — настойчиво сказал широкоплечий. — Мальчик учится хорошо. Я переехал с семьей в ваш город, пришлось, понятно, и сына перевести.
— Понимаю, но… Видите ли… Я хотел только вам напомнить, что гимназия… Вы должны сами это понимать — привилегированное учебное заведение. У нас учатся дети очень порядочных родителей, и вполне естественно, что мы более чем внимательны к подбору учеников. Вы говорите, что работаете на железной дороге машинистом?
— Да, — спокойно ответил широкоплечий, — вот уже шестнадцать лет не расстаюсь с паровозом. А что?
Директор поиграл разрезным ножом из слоновой кости и сказал недовольным тоном:
— Ну хорошо. Мы вашего сына примем в гимназию. Неудобно немного, что вы переводите его к нам среди учебного года, но не в этом дело. Дело в том, чтобы ваш сын не компрометировал, не ронял бы достоинства нашего учебного заведения. Здесь у нас есть несколько мальчиков… Вот в седьмом классе, например, учится сын… кухарки — Лихов. И, представьте, ведет себя довольно прилично. Неотесан, правда… Я надеюсь… Как зовут вашего сына?
— Владимир.
— Фамилия?
— Токарев.
— Так вот, Токарев Владимир, — обратился к новичку директор, — ты должен вести себя хорошо, брать пример с лучших. Хотя бы с Амосова. Есть у нас такой прекрасный ученик.
— Мой сын, — сказал широкоплечий (брови его чуть сдвинулись), — уже четвертый год в гимназии. Никто на него не жаловался. Люди мы, конечно, простые, но, извините, господин директор, я сам видел детей, которые из благородных, а они, между прочим, баклуши бьют. Мой Володька учится добросовестно.
— Ну, ладно, вы можете идти, — поднялся с кресла директор, — только я еще должен вам сказать, что некоторые явления, наблюдаемые нынче в обществе, заставляют нас быть сугубо осторожными в приеме учащихся. Вы понимаете, о чем я говорю? Появились вольнодумцы. В городах вспыхивают какие-то стачки, все чаще и чаще проявления неподчинения начальству. Агитаторы какие-то развелись. Представьте, что это проникает даже в среду наших гимназистов. Какие-то брошюрки ходят, про-кла-ма-ции… Я имею в виду, конечно, старшие классы, но и в младших это начинает проявляться в непочтительном отношении к преподавателям, в нарушении порядка. Вот, полюбуйтесь (директор показал на Самохина), отец — приличный чиновник, служит в казначействе, а сын его просто позорит всю нашу гимназию.
Аполлон Августович вынул толстую папиросу и сердито постучал ею о крышку тяжелого портсигара.
Широкоплечий сдержанно поклонился и вышел из кабинета.
Володька остался.
— Вот, — еще раз показал директор на Самохина, — не будь, Токарев Владимир, таким олухом, как этот, стоящий перед тобой экземпляр.