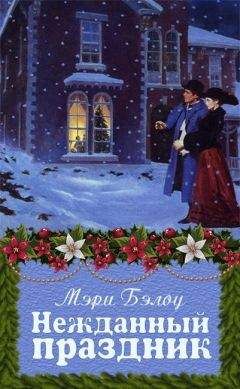Елена Серебровская - Начало жизни
В день Седьмого ноября они вышли на демонстрацию со своим комсомольским комитетом. Стоял необычно теплый солнечный день, шли в легких пальто, а некоторые ребята — в свитерах. На каждом перекрестке останавливались, пели песни, танцевали прямо на мостовой. Лучше всех в их школе танцевала Лена Березкина: стройная, тонконогая, с черными-черными большими глазами, она летала по мостовой, как по паркету и, наплясавшись вдоволь одна, подтанцовывала к кому-нибудь из ребят, о ком знала: умеет, танцует. Она заманивала, махала рукой с платочком, дробно отбивая ногой ритм, отступая назад шажок за шажком, улыбаясь во всё лицо. Нельзя было не любоваться этой девушкой-подростком, такой радостной и подвижной.
И снова быстро строились на ходу и бежали догонять ушедших вперед, пока не прошли Дворцовый мост. Здесь движение сделалось размеренным, ровным: приближалась Дворцовая площадь.
Идут, идут, весь город плывет и движется живыми параллельными потоками, весь город, разукрашенный, как именинник — в цветах, флагах, с дорогими сердцу портретами самых лучших людей, с макетами домен, гидростанций, заводов. Чемберлен, сделанный из раскрашенного картона, с моноклем в глазу, качается над толпой, словно идет на ходулях. Какие-то буржуи вместе с папой римским сгрудились на грузовике. На борту грузовика надпись: «На свалку истории». Конечно, пора им на свалку, но пока папа римский призывает к крестовому походу против нашей страны. Под хоругвями католической церкви…
Всё поет, всё поют. Откуда-то несется тоненький, задиристый девичий голос: «Трубочиста любила, сама чисто ходила во зеленый сад гулять!». А вокруг подхватывают: «Чушки-вьюшки-перевьюшки, Чан Кай-ши сидит на пушке, а мы ему по макушке бац! бац! бац!». И кто только выдумал эти песни раешники! А все их любят, все поют. Или перевернут всё вверх дном и придумывают к песне о Стеньке Разине такой припев, что слушать нельзя без смеха: «А быть может, не челны? В самом деле не челны? Да!».
Но вот приближается трибуна. Песня умолкает: все поворачивают головы к трибуне, чтобы увидеть Сергея Мироныча и гостей.
Киров стоит посреди трибуны, окруженный лучшими людьми города, ударниками заводов, передовыми бригадирами, секретарями партийных комитетов. Он стоит, большеголовый, улыбаясь своей неповторимой кировской улыбкой, и поднятой вверх правой рукой приветствует сограждан. Их много прошло уже сегодня перед этой трибуной, он следил за знамёнами и надписями: «Красный путиловец», «Красный треугольник», заводы имени Карла Маркса, имени Энгельса, имени Ленина. Все лучшие имена даны заводам и фабрикам, чтобы в честь этих людей не угасал огонь в топках, не останавливались машины.
Счастливыми глазами смотрит Киров на живое колышащееся море. Всё это товарищи, помощники, люди, на которых партия может смело положиться. Сколько из них вырастет за годы пятилетки, сколько из этих вот парней и девчат выйдет мастеров, директоров предприятий! И — ученых, изобретателей, артистов, художников! Смотрит Киров на свое молодое войско, и отцовская гордость осеняет его лицо.
И они отвечают любящими взглядами, эти мужчины и женщины, юноши и девушки, старые и молодые. Наш Киров! Многие видали его в цехах своего завода, на улицах города, в институтах, школах.
А рядом, по левую руку, — гость из чужой страны. Он стоит в светлосерой форме Красного фронтовика и приветствует товарищей-ленинградцев сжатым поднятым кулаком. Голова его — в белой марлевой повязке: совсем недавно немецкие фашисты чуть не убили его во время выступления на каком-то митинге. Об этом писалось в газетах, он пролежал несколько недель в московской больнице, а сейчас почти здоров, только шрамы еще не зажили, оттого и повязка. Глаза немецкого коммуниста сияют, он впервые видит столько советских людей сразу, он не ждал такого счастливого праздника, такого шквала приветствий.
Над белой марлей выбилась черная прядь волос, она падает на лоб и немного мешает смотреть. Гость поправляет волосы и что-то говорит Сергею Миронычу. Киров смеется и легко, дружески проводит ладонью по его плечу, как бы успокаивая его. И снова подымает руку, приветствуя ленинградцев.
Маша заметила всё это. Она чуть шею не вывихнула, всё смотрела и смотрела на Кирова и на гостя, колонна двигалась, а она всё смотрела, пока трибуна не осталась совсем за спиной. Кто-то из ребят в их колонне сказал, что это немецкий коммунист Курт Райнер. Завтра он будет выступать в школе его имени в нашем же районе. В школе? Интересно послушать. Надо туда попасть.
Глава двадцать вторая
Возвращаясь домой, она обдумывает, как увидеть Райнера. Надо попросить его выступить и у них, в их школе. Что ему, не всё ли равно? А как это подымет ребят! Сразу вся интернационально-воспитательная работа станет на новые рельсы. Кто пойдет? Хорошо бы Колю Сорокина и Веру Ильину.
Маша тут же делится своим планом с товарищами. Вера не приходит в восторг, она не представляет себе, о чем он там будет говорить, да еще через переводчика. Если Маша хочет, пусть идет, а у нее, Веры, завтра в те же часы праздничный обед и надо обязательно быть дома.
А Коля Сорокин всё понял и тоже загорелся. Правда, он сказал Маше: «Тебе хорошо, ты язык знаешь, а я буду сидеть и ушами хлопать». Но Маша утешила: во-первых, будет переводчик. Во-вторых, она будет сидеть рядом и еще до переводчика кое-что перескажет ему. А в-третьих… в-третьих, она сама не так уж хорошо знает язык и, возможно, сама не всё поймет без переводчика.
Второй день Октябрьского праздника. На улицах людно, все выходные. По проспекту имени Карла Либкнехта гуляют целыми семьями папы и мамы с детьми и даже бабушками. Стайки девушек смеются какой-то чепухе, толпятся у кинотеатров, покупают билеты в театр или Дом культуры. Как ни старались утром и вечером дворники, но на улице снова окурки, конфетные бумажки, яблочные огрызки. На всех перекрестках говорит и поет радио, надо всеми улицами машут красными крыльями праздничные флаги. Некоторые балконы домов, выходящих на большие улицы, загорожены огромными портретами вождей и плакатами, нарисованными на полотне.
Все одеты нарядно, женщины надушены, — они сделали всё, что в их силах, чтобы похорошеть. Правда, в эпоху первой пятилетки, в этом году достаточно девушке надеть защитного цвета юнгштурмовку, а парню — чистую рубашку и целый, не штопаный и не латанный пиджачок, чтобы люди сказали: одет нарядно. Сейчас еще не во что рядиться, сейчас ещё перешивают бабушкины платья, а новых, советских хороших материй еще так мало! Сейчас еще не на многих можно увидеть шелковые чулки, они пока роскошь. Но всё это нисколько не мешает молодежи веселиться и радоваться празднику.
Спортивный зал школы имени Райнера заставлен длинными скамейками без спинок. Впереди стол для президиума и трибуна. За столом президиума еще пусто, но зал уже переполнен. О том, что Райнер будет выступать, узнали только вчера утром, представитель райкома партии на демонстрации подошел к директору школы и сообщил эту новость. Никто не передавал никаких телефонограмм, объявления не вывесили, потому что не хотели зазывать весь город, а парадная школы выходит на людный проспект. И всё же ученики узнали, все сообщили друг другу, и вот в зале нет уже мест, хотя до начала встречи осталось минут десять. Те, кому не удалось занять места на скамейках, сидят на подоконниках, стоят, прислонясь к шведским стенкам, устроились прямо на полу перед президиумом… Ну и что же! По крайней мере, всё хорошо будет слышно.
Коля и Маша входят в зал нерешительно: всё-таки не своя школа. Оба они в юнгштурмовках защитного цвета, подпоясанные новенькими ремнями. На узеньком ремешке, пересекающем грудь наискосок, привинчен кимовский значок: Коммунистический Интернационал Молодежи.
За окном на улице гудит легковая машина, — ну и что ж, мимо всё время проезжают машины. Но это не такая. Она остановилась у парадной. Это он приехал, наверное. Конечно, он!
По узкому проходу между скамеек к столу президиума идут сначала директор школы, высокий, бритый, в очках, гроза всех озорников; за ним Райнер в светлосерой форме Красного фронтовика в белой марлевой повязке. Он улыбается во всё лицо, обнажая белые крупные зубы, правую руку он поднял вверх со сжатым кулаком, как и там, на трибуне. Когда он проходит мимо, Маша видит, что волосы его черные-черные, а сзади, где перекрещиваются марлевые бинты, — подбриты выше обычного, и только над самым лбом оставлен густой непокорный чуб. У него небольшой прямой нос с чуть раздвоенным хрящиком, широкий рот с улыбчатыми ямочками в уголках. А глаза светлокарие, веселые, мальчишечьи, глаза смеются и вызывают ответную улыбку, глаза смотрят в упор на того, к кому обращены, ждут прямого ответа.