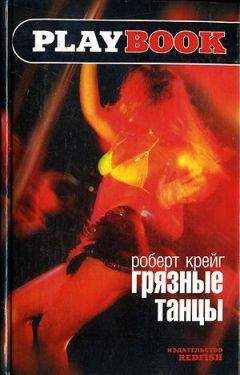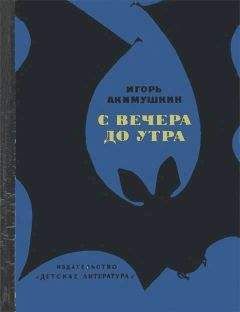Роман Шмараков - Овидий в изгнании
– Не горюй, Аладдин. Коврик мигом домчит нас до Аграбы.
– Смешно сказал, – сказал Генподрядчик. – Удалось зацепить чувство комического.
– Завязывать пора с этим, – сказал сантехник. – Пропал вкус. Слишком долго голову морочим друг другу. Раньше, бывало, пошутишь, так даже самому смешно, а теперь – даже и самому не смешно.
Генподрядчик тревожно посмотрел ему в лицо, боясь увидеть там печать обреченности, какая, говорят, проступает на иных лицах пред великими битвами, – но со вздохом облегченья не увидел ее там: Сантехник был невесел и необщителен, но, кажется, гроза не собиралась над ним, и Генподрядчик потрепал его по плечу.
– Ладно, потерпи, – сказал он. – Увидим еще небо в алмазах. Немного осталось.
Под ними проплывала Атлантида, с ее мостами, общественными зданиями, царскими палатами и известным храмом Посейдона, превратившимся в плавательный бассейн.
– Красота какая, – промолвил Ясновид. – Отчего она затонула?
– Счастье приводит с собой гордость, – афористически заметила владычица. – А бедствия отрезвляют.
– Это как-то слишком кардинально, – усомнился Генподрядчик. – Можно было сначала хоть душ Шарко попробовать.
– Причиной большинства затоплений, – сказал сантехник, – являются засоры фановой трубы.
– Зуб даешь? – спросил Генподрядчик.
– Не первый год столярить, – отвечал сантехник. – Особенно в крестовине. Крестовина – это вообще гиблое дело, и, я тебе скажу, если б у них были нормальные крестовины, то еще неизвестно…
– Вон он! – воскликнула владычица.
Двухтумбовый стол мирно стоял среди жемчужных голотурий. Они сделали над ним круг и опустились. «Я рад вас приветствовать!» – звучно сказали им из водорослей. Осьминог с человеческой головой, украшенной ровно подстриженными седыми баками, выбрался на ровное место и склонил голову перед прибывшими. «Могу ли я осведомиться о здоровье моего владыки, короля Хариберта?» – спросил он. Услышав от Прелесты обо всем, что произошло в столице за время его путешествия, капитан Репарат скорбно вздохнул и вновь склонился перед своей новой владычицей. «Искренне надеюсь, – сказал он, – что в нелегкую годину женская рука сможет держать кормило власти не слабей, чем держала мужская». «Да, это его стиль», – сказал Генподрядчик, толкнув сантехника в бок. «Вы получили мое письмо?» – спросил Репарат. «Иначе бы мы не были здесь, – с улыбкой сказала владычица. – Но оно дошло до нас поврежденным. Разрешите наш спор: к чему относилось слово “глубочайшей”?» Репарат сосредоточился. «Я помню это письмо, как сейчас, – сказал он. – “Я, капитан Репарат, нашел стол, и с глубочайшей радостью сообщаю, что жду Вас близ него, на расстоянии полутора часов пути со скатом мантой, движущимся скорейшим образом, строго на северо-северо-восток от Вашей столицы, а в ожидании Вашего прибытия буду делать все, что в моих силах, чтобы сберечь стол”. Вам удалось разобрать это?» Все переглянулись. «Ну, как выясняется, не совсем», – сказала владычица. «Так почему же вы здесь?» – с удивлением спросил Репарат. «Как обычно, повезло», – сказал Генподрядчик. «Что же это мы стоим, – быстро сказал Репарат. – Прошу к столу».
Они обошли кругом, наблюдая его внушительные, но лаконичные черты и произнося все, что следует произносить в таких случаях, именно: «Теперь так не делают», «А с виду совсем обычный» и «Я точно такой же на распродаже в райкоме комсомола купил, в девяносто первом году». «Испытать бы, – сказал Генподрядчик. – А то, может, у него уже срок вышел». «У работы богов срок не выходит», – с гордостью сказал Репарат, гладя щупальцем полированные грани. «А на чем испытать?» – спросила владычица. «Одну минуточку, – сказал сантехник. – У меня есть тут на примете один текст, взывающий к доработке». С этими словами он зашел за водоросль, а с другой ее стороны не вышел, произведя этим жестом определенное впечатление в обществе, так что, когда минуту спустя он сказал им в спину: «А я уже тут», все обернулись и посмотрели на него, как африканские дети на льва Бонифация. Обладая, как известно читателю, сверхчеловеческими способностями, сантехник не уставал использовать их на благо людям, и в настоящий момент, пока все стояли в ожидании, быстренько смотался в десятую главу, где беспрепятственно забрал «Алые ткани» ci-devant автора, вызвав смущение коллег своим сухим видом, в то время как его вторая ипостась мылась, лелея в душе (это, кажется, опять вышел каламбур) праведное раздражение.
– Вот это утилизуем, – сказал он, помахивая «Тканями». – Как исходный материал. Куда вставлять?
– Вон приемное окно, – указал Репарат, имевший время освоиться с механизмом.
– А выходить продукт откуда будет?
– Там сверху отпускная щель, залезай.
Сантехник вспрыгнул на стол.
– Погоди, тут параметры надо задать, – сказал снизу Генподрядчик. – Спидометры всякие, чтоб не разгонялся. Шкала народности.
– Народность ставь на максимум, – сказал сантехник. – Да не сорви рубильник-то, а то понесет. Дальше чего?
– Историзм. В диапазоне от подлинного до декоративного.
– В чем измеряется? – с интересом спросил сантехник.
– Тут какое-то «Фом.». От нуля до ста пятидесяти их.
– Аббревиатура, видимо, – решил сантехник. – Фукидид, Оттон, Мишле. Поставь где-нибудь семьдесят пять-восемьдесят, больше не надо.
– Жанровые ожидания. Два варианта: «оправ.» и «не оправ.».
– Ставь «оправ.». Чего еще?
– Еще баланс света и тени.
– Давай, знаешь, пятьдесят на пятьдесят, а то припаяют субъективизм оценок, не отмажешься потом. Все, что ли?
– Все вроде. Включаю?
– Поехали.
Стол загудел, лампочки его моргнули, стрелки дернулись. По минутном размышлении в ногах у сантехника зазмеился свиток образцовой прозы, он оторвал кусок и принялся читать:
«…и по той глухоте, которую он ощутил в своем сердце, он понял, что это его смерть и что с этим ничего, ровно ничего нельзя уже поделать. Его вынесли из кареты, и люди засуетились, расстилая на октябрьской траве пуховик, а он глядел на них, силясь понять, что такое они делают, и находя в себе лишь одну мысль, что «вот я умираю, – думал он, – а Державин оду напишет»; и он еще какое-то мгновенье оглядывал затмевающимися взглядом, на который через несколько минут положены будут солдатские медные пятаки, всю эту ясскую осеннюю степь и бледное, тихое небо над нею, словно бы спрашивая себя, как Державину удастся это описать, и думая, что бы подсказать ему из того немногого, что еще виделось его взору. Браницкая, поспешно выйдя за ним из кареты, так что никто не успел помочь ей, со странным выраженьем беспомощности на красивом надменном лице, с подрагивающей губою и подбородком, что-то говорила ему, видя, как пухлая его, с голубыми жилами рука, по манию которой толпы людей, доселе сидевшие спокойно, вдруг поднимались и лезли на очаковские стены и на башни Измаила, эта рука, привыкшая думать, что именно ее движение и было причиною, для которой эти толпы лезли куда-то убивать и быть убиваемыми, – она теперь, приподнявшись от желтого былья, в котором лежала, сделала в ее сторону лишь слабый, жалкий жест, должный означать: «Оставь, все кончено». И покамест графиня еще кричала Юзевичу, чтоб было сделано что-то, что необходимо нужно было сейчас, он, со смежившимися веками, медленно кружился на своем одре, испытывая легкую тошноту, и вдруг с необычайной живостию увидел подступавшегося к нему, оказывая желтые зубы, того самого, выбежавшего на опушку, волка, который так напугал его когда-то в Чижове, когда ему не было еще восьми лет; и потом он видел еще, как какие-то женщины смеялись, закидывая головы, и красивое, бледное лицо молодого князя Голицына, о котором говорили, что это он его убил, потому что он из презрения не давал себе труда опровергать эти слухи, это лицо с выраженьем интереса смотрело на него, как бы спрашивая: «Что, брат, а с этим как сладишь?»; а за ним он видел кормящую лебедя Екатерину, с тем чувством нежности и злобы, которое от долголетнего испытыванья стало совсем привычным, так что он удивлялся, если долго не замечал его в себе. Но волк, почему-то совсем не боясь той блестящей толпы, что кишела и шумела кругом, все подступал к нему, какого-то цвета прелой соломы, и тогда он закричал Катерине, чтобы пришла и спасла его от волка; но Катерина…»
– Милое дело, – одобрительно сказал он. – Теперь Иван Петрович не откажется. Все ему тут, и образ родной природы, и мысль предсмертная, и на доске выписывать не надо.
Тут на горизонте с южной стороны показался еще один скат, на котором были Эдгар и единорог; Эдгар выглядел как обычно, а единорог расстроенным. Эдгар, раскланявшись со всеми и обнявшись с Репаратом, рассказал, как они съездили в виноградную посадку, стола там не нашли, но посмотрели на знаменитое место. Единорога оно с непривычки поразило. Сплетаясь ветвями, стояли многочисленные женщины, которые ниже бедер превращались в крепкий ствол, уходивший корнями в землю; из пальцев у них израстали ветви, все в тяжелых гроздьях, а прекрасные головы украшались широкими листьями и виноградными усиками. Единорог ахнул и задумался. Он стоял подле одной женщины, с широкими ключицами, с родинкой над губою, с крутым завитком лозы на виске. Она загадочно улыбалась ему изумрудными глазами, лепеча: «Сал, бер, рош». («Никто у нас не знает этого языка, – объяснял Эдгар собравшимся у Стола. – Лидийский, видимо».) «Я люблю ее», – решительно сказал единорог и потянулся обнять. Эдгар насилу остановил его, советуя посмотреть, что будет дальше. Группа высыпавшихся туристов разбрелась по одичалому лабиринту; один подошел к какой-то женщине и сорвал с нее гроздь. Женщина удержала скользнувшую гримасу боли, улыбнулась ему влажными губами и сказала: «Сал, бер». Турист принял это за приглашение к поцелую и не стал отказываться. Оторвавшись от длительного поцелуя, с безумной улыбкой на потемневшем лице, он из ослабевших пальцев выронил нетронутую гроздь, и его рука, тронув женщину за шею, прошла по груди, животу и остановилась на бедре. Он обнял ее; она невнятно бормотала: «Бер, рош». Рука туриста утонула всей пястью в ее зыбучем бедре, из его локтя выстрелил виноградный побег; его ноги дернулись и слились с ее стволом («Йон, – говорила она, дыша ему в лицо. – Йон»), и из-за ушей у него вкрадчиво поползли курчавые гибкие ветви. Рюкзак, набитый туристическим снаряжением, еще покачивался на земле, жестяно стуча притороченной сверху сковородой. Единорог глядел с напряженным вниманием, от которого словно что-то ускользало, а когда все стихло, лишь тяжело покачивая общими лозами, обернулся и посмотрел на женщину с родинкой, улыбавшуюся ему прежнею, нежно-бесстыдной улыбкой. «Бер», – сказала она. Единорог ссутулился и побрел к выходу из аллеи. Эдгар, обеспокоенный, поймал ската и доставил единорога сюда, причем в пути тот не вымолвил ни слова и лишь вздыхал.