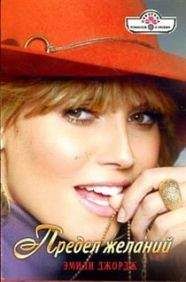Альваро Юнке - Мужчины двенадцати лет
Как-то раз в субботу, на последней перемене, перед последним уроком, на котором должно было произойти обычное аутодафе, один мальчик по секрету сказал другому:
— Знаешь, что я придумал?
— Что?
— Бежим скорее в класс, достанем из сумки три песо… и возьмем их себе! Хочешь?
— Я боюсь.
— Что увидят-то? Да не увидят!
— Я боюсь святого.
— Так ведь он только картинка!
— Но на небе ведь есть настоящий…
— А мне так думается, что это всё выдумки Монашка… Подумай, три песо! Полтора на каждого. У тебя было когда-нибудь полтора песо?
— Никогда!
— Вот видишь! Пойдем…
И мальчик взял товарища под руку.
— Но как же так?.. — колебался второй мальчик, однако все же шел за первым. — А ему не скажем?
И он указал на проходящего мимо них мальчика, того самого, который предложил отдать три песо парализованной старухе. Заговорщик слегка трусил и мечтал о подкреплении. Ему казалось, что, чем больше будет участников преступления, тем меньшая вина падет на каждого.
— Но ведь если мы ему скажем, — ответил автор проекта, — то нам придется отдать один песо ему.
— Ничего. Каждому достанется по одному песо.
— Ладно!.. Слушай, ты знаешь что? Мы решили взять три песо из сумки святого, а вместо них засунуть три кусочка газетной бумаги. Как ты думаешь, а?
— И мы тогда отдадим три песо той бабушке? — спросил третий мальчик. — Вот здорово! Я согласен! — Он был в восторге.
Его решимость придала бодрость двум первым заговорщикам.
— Нет, каждый возьмет себе одно песо.
— Если хочешь, отдай свое этой бабушке…
— Хорошо! — согласился филантроп. — Пошли! — А по дороге подумал: «Может быть, все-таки я дам бабушке только полпесо, а другую половину оставлю себе».
Они стремительно вбежали в класс. Один из мальчиков встал у двери на страже. Другой приставил к стене стул. Третий вскарабкался на него и открыл сумку. Он быстро засунул в сумку руку, схватил какие-то бумажки и вытащил.
— О!.. — вскрикнул мальчик и чуть не упал со стула.
В его руке оказались пожелтевшие обрывки старых газет.
ЯЙЦО В ТАРЕЛКЕ СУПА
Каждый день, возвращаясь из школы, Дамиан Бальби принимался готовить похлебку, чтобы отец, вернувшись с работы, мог поесть горячего. Он не первый год занимался такой работой. Уже девятилетним мальчиком он умел готовить. В течение пяти лет Дамиан каждый день чистил картошку и нарезал капусту, прежде чем приняться за приготовление уроков и углубиться в свои книги.
Он жил вдвоем с отцом, светловолосым великаном, тихим и немногословным, к которому его привязывало нечто большее, чем сыновний долг. Матери своей он не знал. Он вырос рядом с этим молчаливым, угрюмым человеком и сам сделался таким же молчаливым и угрюмым. Дамиану было четырнадцать лет, но он чувствовал себя взрослым мужчиной и рассуждал как взрослый мужчина.
Его отец был каменщиком, бригадиром каменщиков, и, чтобы поспеть вовремя на работу, ему приходилось вставать очень рано. Возвращался он лишь поздно вечером, усталый и голодный. Говорил мало, в основном интересовался, как у сына идет ученье, — это была его главная надежда, его гордость; потом ложился спать.
Утром мальчик поднимался раньше отца, чтобы приготовить кофе с молоком.
Пока Дамиану не исполнилось девять лет, завтрак и обед готовил отец. Но вот как-то вечером, вернувшись с работы, отец увидел, что на очаге кипит котелок, а мальчик склонился над ним и дует с очень серьезным лицом.
Когда отец приблизился, Дамиан, словно извиняясь, сказал:
— Я сварил тебе похлебку, папа. Я теперь каждый день буду варить. Так что когда ты придешь с работы, то сразу сможешь сесть за стол… Потому что ведь ты так устаешь!
Великан растрогался. Он положил свою огромную лапищу на белокурую голову сына и изрек:
— Ты в жизни далеко пойдешь!
— Я, папа?
— Да.
— Почему?
— Почему? Я и сам не знаю почему. Но мне кажется, мне, говорю, кажется, что ты не такой, как другие мальчуганы твоих лет. Потому-то я хочу, чтобы ты учился… Я, когда мне было пятнадцать лет, мечтал стать знаменитым художником вроде Леонардо да Винчи. Потом мне пришлось удовольствоваться работой каменщика. Но, кто знает, может быть, о тебе судьба порадеет, и ты станешь тем, чем я не смог стать…
Как-то вечером, вернувшись из школы, Дамиан нашел отца дома. Он спал. Рядом с ним сидел другой каменщик. Он объяснил мальчику:
— Ему стало плохо, сильные боли в спине и в груди. Пришлось вызвать «скорую помощь»… Теперь вот он заснул.
Дамиан перепугался насмерть. Ему никогда не приходило в голову, что отец может заболеть. Проснувшись, отец принялся отчаянно стонать, и Дамиан побежал за доктором. Доктор велел немедленно отвезти отца в больницу: его необходимо было срочно оперировать. Он сказал, что предполагает язву желудка и камни в печени. На следующее утро отца оперировали. Около полудня он скончался.
Дамиан чувствовал себя так, словно ему отрезали обе руки и обе ноги. Сердце его исходило кровью от страшного горя, которое он переносил без слез, без слов, как мужчина. Дядя Хосе, младший брат отца, тоже каменщик, такой же большой и кроткий, как и старший брат, распоряжался похоронами.
Когда вернулись с кладбища, он сказал племяннику:
— Ну что ж, Дамиан, теперь будешь жить с нами. Моя жена будет тебе матерью. А сыночек — твоим братом. Ну, а я за отца тебе буду. Что ж тут поделаешь, Дамиан! Уж кому что на роду написано. Отцу твоему туго в жизни пришлось. Хороший он был человек, многого стоил, вот зато, верно, и не было ему счастья. Может, тебе повезет. Я тебе за отца буду. Хочу, чтобы ты ученье свое не бросал…
— А может, мне лучше работать пойти?
— Нет, не бывать тому! — крикнул дядя и с силой топнул своей огромной ногой об пол.
— Да вы ж человек бедный, — уговаривал Дамиан. — Вы ж рабочий, каменщик, мало получаете ведь!
— У меня кое-что отложено, так, ерунда, около трехсот песо. Мы из этих денег будем брать на книги и чтобы платить за ученье. Потом, когда ты поступишь в институт, там видно будет!.. Твой отец для меня много сделал. Должен же я ему отплатить чем-нибудь за его заботы. И больше ни слова! Пойдем домой!
Тетка, тощая и очень нервная, встретила Дамиана неприветливо. Но ее сын, двенадцатилетний мальчик, болезненный и щуплый, очень обрадовался, увидев этого угрюмого силача-брата, в котором сразу почувствовал своего будущего защитника. Дядя торжественно представил Дамиана жене и сыну, словно те видели его в первый раз:
— Корина, вот твой второй сын. Наш старший сын… Сиксто, вот твой старший брат… — И он легонько подтолкнул Дамиана: — Пойди поцелуй своего братишку.
Мальчики ласково обнялись и поцеловались. Тетка что-то сердито проворчала, но Дамиан был слишком расстроен, чтобы обратить на это внимание. Дядя тоже не заметил недовольства жены: честный добряк был искренне взволнован всем происходящим. А Сиксто ликовал: теперь у него есть старший брат, такой сильный, такой большой! И мальчик не отходил от Дамиана и улыбался ему робкой улыбкой слабого, болезненного ребенка.
Ночью Дамиан случайно услышал разговор, которого никак не ожидал.
Единственная комната, служившая семье и спальней и столовой, была теперь разделена занавеской. Большая часть была отведена под столовую и спальню для дяди и тетки, а в меньшей, за занавеской, спали дети. Мебели было так мало, что здесь были возможны любые перестановки и перемещения.
Дамиан, лежа на спине, с устремленными в темноту глазами, думал об отце. По другую сторону занавески послышался шепот, и потом голос тетки спросил:
— Дамиан, ты спишь?
Сам не зная отчего, вероятно боясь прервать дорогие его сердцу воспоминания, Дамиан не ответил.
И тогда тетка, думая, что он спит, стала говорить громче: она сердито упрекала мужа за то, что он привел в дом лишнего едока.
— Он сын моего брата, — сказал дядя.
— Но каждый кусок, что ты даешь сыну твоего брата, — не унималась тетка, — ты вырываешь изо рта у твоего родного сына. Почему ты уперся на том, что он должен продолжать учиться?
— Потому что мой брат этого хотел.
— Твой брат! — рассвирепела тетка. — Твой брат мог жертвовать для него всем, чем угодно. Ведь это его сын! А тебе он всего-навсего племянник, и у тебя собственный сын есть. Ты должен о сыне заботиться, а не о племяннике. Если он будет продолжать учиться, твой родной сын должен будет стать каменщиком, как ты!
— Дамиан очень способный, — сказал дядя, словно для того, чтобы убедить жену, ему нужны были какие-то объективные данные: одних чувств было недостаточно. — А наш Сиксто, что греха таить, туповат. Не лезут ему науки в голову, да и только! Сама посуди, ведь он уже пять лет в школу ходит, а все еще в третий класс не перешел. Как бы мы ни хотели, чтобы он закончил ученье, все равно ничего не получится. Твердолобый он у нас. Весь в меня! А Дамиан — тот в своего отца вышел. Брат-то умница был! Он, бедняга, так хотел учиться… Но как только он начал ходить в школу, наши родители померли. Он и остался вроде как за отца для меня и для двух младших сестренок. Пришлось ему забросить книги и пойти работать. Пожертвовал собой для нас. А потом он хотел, чтобы я учился, раз уж ему не пришлось. Куда там! В мою голову ученье не лезло. Со мною было так же, как с нашим Сиксто. Оба мы с ним твердолобые! Ну что ж тут будешь делать? Это наша беда. Кто родился твердолобым, тот уж до смерти твердолобым и останется. Это вроде как горбатый — он уж весь свой век горбатый и есть. Или, к примеру, хромой… А сделать из нашего Сиксто инженера или адвоката — да это так же невозможно, как сделать из хромого или горбатого заправского боксера. Верно я говорю?