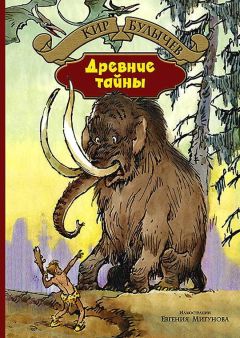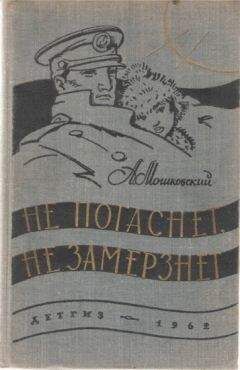Владислав Крапивин - Взрыв Генерального штаба
– Там не разберешь, кто стрелял. Палили с двух сторон, а про пассажиров и не думали… Вот Ермилка и остался один. И ушел туда… Он никого не хочет видеть. Вернее, не хочет, чтобы е г о видели. Говорит, что одному жить лучше. С бабочками, стрекозами и лягушатами…
– А зимой? – поежился Лён.
– У него хижина, а в ней солома и сухие камыши. Он в них зарывается и спит до весны…
– Сочиняешь, – догадался Зорко.
– Ничуть не сочиняю!
– Но он же не медвежонок!
– Нет… Но и не обыкновенный мальчик. Он…
– А чем он питается, когда не спит? – недоверчиво перебил Лён.
– Иногда я ношу ему хлеб и молоко… Но он может совсем не есть. И неделю, и месяц, и хоть сколько. Просто ему нравится, что я прихожу и приношу гостинцы. И книжки… Мы познакомились в прошлом году, когда я там охотилась за тритонами для школьного террариума. Знаете, что такое террариум?
– Знаем! – Зорко стукнул босой пяткой о камень. – Ты скажи: он так и живет там целых два года? Ведь “Константин”-то штурмовали в позапрошлом году!
– Так и живет. Как Маугли. Только без волков…
– Но он же тогда был совсем маленький! Не мог он один, – опять не поверил Лён.
– Восемь лет ему было…
– Значит, сейчас он не младше меня, – придирчиво заметил Зорко.
– Ему и сейчас восемь лет.
– Лён, давай спихнем Враль-Динку вниз! Чтобы не пудрила нам извилины!
– Да правду я говорю! До чего бестолковые! Вы дослушайте до конца! Он не простой мальчик, а невидимка!
– Лён, ты ее с того бока, а я с этого…
– Ай! Дурни!.. Ну, честное же слово! Он стал таким, потому что… ну, это, наверно, как болезнь… Я же говорю, он не хотел, чтобы его кто-нибудь видел. Он перестал верить всем-всем людям, вот!.. И от всех скрылся, вот!.. А у невидимок время почти не движется. поэтому Ермилка не растет. Вернее, он растет, когда превращается в нормального, в видимого, но это бывает очень редко, на несколько минут. Он не хочет, чтобы про него знали. Только со мной подружился…
– Почему? – слегка ревниво спросил Лён.
– Ну… надо же с кем-то… Он же почти малыш, тоскливо совсем одному… Он все про себя рассказал. Признался, что по ночам иногда плачет. Это когда совсем темно, нет луны… Но вообще-то он веселый. Проказник…
Лён вдруг поверил. Почти. Зорко, видимо, тоже. Он спросил:
– А какие книжки этот Ермилка любит?
– Сказки про зверей… Он там организовал хор из дрессированных лягушат. Он рассказывает, что среди них есть говорящие…
– Врет, – уверенно сказал Зорко.
– Ну, может быть фантазирует… Вообще-то он иногда бывает вредный. Упрямый. Особенно когда приходится лечить его ссадины-царапины. Он ведь там то и дело обдирается о колючки, потому что бегает голышом. Думаете, я почему таскаю в сумке всякие медикаменты? Из-за этого обормота…
– Как же ты мажешь йодом его, невидимого? – усмехнулся Лён.
– Велю сделаться видимым. Ну, не полностью, этого он стесняется, а ту часть, которую надо лечить… Хуже, когда он болеет весь. У него то и дело кашель или мокрый нос. А недавно схватил простуду с температурой. Я принесла ему аспирин и колдрекс, а он за два дня не проглотил ни порошка, ни таблетки. Да еще кукарекает и дразнится…
– Значит, не очень больной, – рассудил Лён.
– Он меня вывел из себя! Так, что я ему даже всыпала!
– Как? – удивился Зорко.
– Очень просто. Сказала “иди сюда”, взяла за локоть и дала такого шлепка, что его дрессированные лягушата расквакались на всю округу.
– Бедняга, – вздохнул Лён. – А почему он от тебя не спрятался?
– Посмел бы только! Он меня слушается…
– Слушается, а лекарства не пьет, – поддел Зорко.
– Потому что глупый…
– А как же ты не промахнулась при шлепке-то? – хихикнул Зорко. – Или ты велела ему сделать т о с а м о е м е с т о видимым?
Динка сказала, что это лишнее. Она и так знает, где у вредных мальчишек находится место, по которому учат уму-разуму. И кое-кто в этом сейчас убедится, если не перестанет ехидничать.
Зорко хихикнул опять:
– Я-то не невидимка.
– Тем более, – сурово отозвалась Динка. И опять запечалилась из-за Ермилки. – Ну его… бестолковый такой. Я реву от досады, а он меня дразнит: “Ты не Динка, ты Зинка. Не “Дож”, а “Сле…”
– Невоспитанный ребенок, – голосом старинной классной дамы заявил Лён. – Ты должна быть с ним более строгой. А то неизвестно, кто из него вырастет… Ох, да он же не растет!
– Пока не растет. Не хочет… Он знаете что мне сказал, когда помирились? Уткнулся невидимым носом мне в колени и шепчет… нет, не скажу…
– Ну, Ди-инка! – взвыли Зорко и Лён. Зорко добавил: – Интересно же!
– Вам интересно, а я… Я потом скажу…
– Эй, дамы-кавалеры! – окликнул из сумерек старик Август. – Ужинать будете? Или мы с Румпелем и Тиви все поделим на троих!
Динка вскочила.
– Дедушка, мы идем!
Динка осталась ночевать.
Все долго не ложились. Маяк опять не горел. Это была пустая предосторожность: все равно за скалистым островком с крепостью переливался огнями и рекламами бессонный и шумный Льчевск – с моря его было видно за много миль. Но приказ есть приказ. Старику это было только на руку. Он снял с объектива на пушке парусиновый колпак.
– Дедушка, ты дашь нам посмотреть?
Старик Август дал. Смотрели подолгу. Ярусы звезд висели в черноте. Прямо задохнуться можно, какая она громадная, эта чернота и такое бесконечное в ней количество звездных миров. Среди звезд светились похожие на фосфорических медуз туманности. А разноцветные шарики планет похожи были на потерявшиеся елочные игрушки. Рядом с ними мерцали бусины спутников…
– Ну, молодые люди, пора и честь знать, – время от времени напоминал старик Август. – Мне надо работать.
“Молодые люди” говорили “ага” и опять с сопением оттирали от окуляра друг друга.
Наконец пустили к телескопу и деда. Он склонился над окулярной трубкой и спросил не отрываясь:
– Убедились, как грандиозно мироздание?
– Ага, – выдохнул Зорко.
– То-то, что “ага”… Надеюсь, поняли, какая мелкая капля в этой бесконечности наша Земля? И как мелочно то, чем люди на ней занимаются. Все их беды и заботы…
Лён подумал и возразил:
– Мелочны, если смотреть оттуда, из космоса. Тогда Земля – шарик и все заботы – пустяки. А если вплотную…
Зорко тоже возразил из темноты:
– Когда убивают отца и мать – это не мелочь, хоть откуда смотри…
– Милые мои… – Старик Август, видимо, смутился. – Я не о том… Вернее, как раз о том, как глупо и преступно убивать друг друга, когда все мы живем на одном крошечном шарике…
Лён приказал себе молчать. Зорко тоже молчал. Скорее всего без приказа. Может, боялся заплакать.
Динка сказала:
– А что сделать, чтобы не убивали? Дед, ты знаешь?
– Не знаю… Все зависит от людей. От того, чего они хотят и во что верят. Одни строят в своем сердце храм, другие военный штаб…
– А если обсерваторию? – поддела старика Динка.
– Обсерватория – тот же храм. Ближе к звездам – ближе к Богу. Сказано, что Бог есть любовь. Если в каждом будет Бог, штабы станут не нужны…
– Как любить того, кто убил отца? – тихо спросил Лён.
– Не знаю, – вздохнул старик Август. – Честно скажу, не знаю… Но кто-то же должен остановиться первый.
– А второй тогда остановится? – опять спросил Лён.
И старик Август снова сказал, что не знает.
А цикады трещали в старой крепости без умолку. Словно от самих звезд шел сухой стеклянный звон. А еще было слышно, как скребется в конуре косматый Румпель. Рядом с конурой, сунув голову под крыло, спал Тиви. Но он-то спал совсем бесшумно.
Сказка о месяце
Наутро они втроем искупались под скалами. Потом Динка сказала, что пора в школу. Лён решил проводить ее.
– Ничего, что с тобой пойдет такой оборванец?
– Кому какое дело!.. И, между прочим, выглядеть оборванцем сейчас даже модно.
Зорко сказал, что пойдет с ними. Но потом в секунду передумал – словно что-то вспомнил.
– Нет, я останусь… Раковины поищу…
А когда они ушли, тоже побежал через дамбу. Сам по себе…
Лён побродил по пестрым улицам, по шумному рынку. Проиграл две серебряные монетки жуликоватому парню, который дурил голову обступившим его людям – с помощью пластмассовых стаканчиков и шариков.
Лён отлично видел хитрости этого мошенника и мог бы легко обставить его. Но это вызвало бы подозрение. К тому же, у парня наверняка вертелись рядом дружки…
А монеток было не жаль. Денежный запас, который Лён получил в школе и держал в потайном кармане у пояса, не был израсходован и на треть.
И все же Лён поторговался с теткой, которая продавала арбузы, – так, чтобы не выходить из роли. И торговка эта, спешившая домой, уступила самый большой арбузище буквально за гроши.