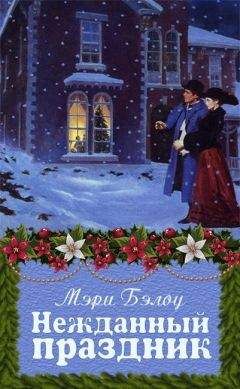Елена Серебровская - Начало жизни
— Тетя Рина, я принята в кандидаты комсомола, — начала Маша серьезно. И умолкла: Валентин смотрел на нее, не скрывая насмешки. Нет, здесь не стоило объяснять свои побуждения.
— Но, девочка родная, зачем тебе заниматься этим черным физическим трудом! Неужели для этого нет других, менее развитых, менее интеллектуальных молодых людей и девушек!
— Ты хоть справку отсюда возьми, что ударно работала, — сказал Валентин и снова рассмеялся.
— Какой ты… — не выдержала Маша. — Неужели я стараюсь для справки?
— Возьми, пригодится. Выдвинут куда-нибудь.
— Видимо, тебе очень, обидно, что тебя никуда не выдвигают?
— А мне и не надо. Я своей радиостанцией очень доволен.
— Дети, кушайте яичницу, — вмешалась тетя Рина. — Не надо столько спорить, это портит характер. Каждый поступает, как ему хочется, ведь правда? Пусть каждый останется при своем.
«Грош мне цена будет, если этот «энтузиаст» останется при своем к концу лета», — подумала Маша, но замолчала. Она еще поспорит с этим чудаком! Не понимать простых вещей!
Дядя Илья был полетать жене: добродушный, мягкий, он в то же время не стеснялся иронизировать над такими вещами, которые Маше казались святыми и бесспорными. Он то и дело подшучивал над заводскими комсомольцами, над малограмотностью их секретаря Фроси Ховриной, которая хорошо борщ варит, но ничего не смыслит в культурной революции. Маша была еще слишком мало вооружена фактами, чтобы разбить противника легко и быстро. Она старалась защитить честь комсомольской ячейки, как могла, но они, эти родственники, не поддавались никакому воздействию. Согласившись с нею на миг, дядя Илья через минуту снова острил по тому же поводу. Нет, спорить с ними было бессмысленно. Или, может быть, рано для Маши, — вот поживет с месяц, тогда и у нее фактов наберется. Однако с Валентином нельзя было не спорить. Он сам то и дело вызывал ее на спор.
«Ну их, обыватели, — подумала Маша о дядиной семье. — Противно ходить к ним. И не за чем. Зашла, исполнила долг вежливости, потому что мама велела, а теперь хватит. Только и разговоров у них, что о родне, о старых знакомых, да о нарядах».
Маша попрощалась, — пора было отправляться домой.
— Постой, Ершик, я тебя провожу до перевоза, — сказал Валентин и набросил на плечи пиджак. Вышли вместе.
— Я потому не вступаю в комсомол, — начал он без предисловий, — что мне не нравится моральный облик наших заводских комсомольцев. Ты же их не знаешь. Такая распущенность, ничего святого… Парни так хвастаются своими успехами, да и девушки не лучше. Ты скажи, на чем держится комсомольская мораль? На чем? В бога вы не верите, совести не признаете…
— Кто тебе сказал, что совести не признаем? Что ты вообще читаешь, Валентин?
— Я читаю… я особенно охотно читаю двух великих писателей, — сказал он серьезно: — Достоевского и Толстого. Вот мои образцы. Они проповедуют высокую мораль, это тебе не ваша ячейка (он сам не заметил, как соединил в одно Машу и заводскую ячейку комсомола, и Маше это польстило). Толстой для меня — высший образец нравственности. Вот у кого учиться.
— Конечно, непротивление злу насилием…
— А что, думаешь, так нельзя добиться многого? Можно. Именно гордым непротивлением, на виду всех. Чтобы совесть заговорила у человека, чтобы ему самому стыдно стало. А силой — это что… Нет, я не вижу у вас нравственного идеала.
— Люди умирали, людей вешали, расстреливали, даже имена их в большинстве не записаны нигде, даже славы для них нет, а он не видит идеала! — сказала возмущенно Маша. — Такие, как ты, видят только себя и свою культурную привычку чистить зубы по утрам. Вы даже не замечаете, что вокруг Делается. Революция теперь продолжается в деревне, там тоже коммунисты жизнью рискуют ради наших идеалов… пока ты на своей радиостанции наслаждаешься, — подчеркнула она, ибо считала, что работать техником на радиостанции — это просто наслаждение и забава. — Ну что такое Достоевский и Толстой? Ну, хорошие писатели, и то, смотря в чем. В Достоевском я вообще ничего хорошего не вижу.
— А ты читала «Идиот»?
— Нет. Но я «Бесы» читала, это карикатура, пасквиль на революционеров.
— Ты прочитай «Идиота». Глубже книги я не видал, ей богу. Ты прочитай и вдумайся.
— Напрасно ты надеешься, что Достоевский может меня поколебать, — сказала она. — Просто ты стараешься уйти подальше от современности, спрятаться за этими писателями. Но ведь ты же молодой парень. Ну, почему, почему ты так оскорбляешь их всех, заводских комсомольцев? Ты слышал их когда-нибудь на собраниях? Ты видел, как они после работы, усталые, яму чистят? Выгоды же никакой. Только сознание, что помогут заводу, помогут государству и партии. Неужели это, по-твоему, не нравственно?
— Ты их идеализируешь. Не сознают они всего этого. Идут и идут, подумаешь, трудно поработать часика два…
— Не трудно, так почему же ты не пошел? Почему? Боялся брюки запачкать?
— Я на своем месте пользу приношу.
— А они не приносят? Они пришли после рабочего дня.
— Ты не агитируй: я убежденный толстовец и говорю это тебе, так как доверяю. Толстой дал такую красоту нравственности, что никаким комсомольцам до нее не дотянуться.
— Жизни ты боишься, Валька, жизни боишься! Не подготовлен ты к ней, вот тебя и пугает.
— Можно подумать, что ты подготовлена. Все руки в волдырях.
— Руки это да, но сама я давно уже себя воспитываю. Ты даже не знаешь, какой я была когда-то безвольной и тряпкой. Это порода наша, лозовская, — добряки! Ни богу свечка, ни чёрту кочерга.
— Однако папашу моего ценят. Честный специалист.
— Не знаю, а рассуждает он плохо. Ничего не понимает человек. И тебе не стыдно за отца?
Она задела самое сокровенное. Отец был для Валентина образцом чистоты и нравственности. Валентин старался шутить так же, как папа, и быть таким же добрым, как папа. Это отец устроил ему такую интересную работу, как работа техника на радиостанции, отец добился ассигнований на эту станцию, — она стоила заводу не мало.
— Ты сама доедешь на тот берег или перевезти? — мрачно спросил он, не отвечая на вопрос.
— Сама.
— Спокойной ночи.
Глава восемнадцатая
Ячейка поручила Маше и Фане пойти снова в «Путь Ильича» и договориться с председателем колхоза о дне субботника и о подготовке нужного количества цапок. Предполагалось полоть и окучивать капусту.
Девушки вышли утром после завтрака. Они шли дорогой, ведущей в райцентр, по широкому лугу, мимо маленьких молодых рощ и колхозных полей.
Девушки шли, болтая о чем придется, неся в руках туфли, чтобы не замочить их в утренней росе. И вдруг на лоб, на щеки и нос упали капли дождя. Потемнело внезапно. Полил сильный дождь.
Девушки подбежали к кустам лозняка, сели на землю и скрутили над головой верхушки кустарника. Дождь проникал сквозь это укрытие, но сидеть здесь всё же было спокойней — гремел гром, луг озаряли молнии, в воздухе было тесно от дождя и ветра.
Они сидели, прижавшись друг к другу. Маша узнала, что у Фани родителей нет, живет она у тетки, на каждый кусок глядит из чужих рук. У ней ничего почти нет, кроме той одежды, что на ней. Тетка не пускает ее в ячейку и на субботники, но Фаня всё-таки ходит, потому что там она хоть не одна, а с друзьями-товарищами. Она и дома не отказывается помогать на уборке сена и на огороде.
Они шептались, а дождь колотил их по спинам с таким постоянством, что девушкам надоело. Встали и пошли дальше. Мокрая трава хлестала по голым ногам, высокие пирамиды мальв ударяли мокрыми цветами по груди и лицу, но идти всё же было веселей, чем ждать, ничего не предпринимая.
У самого холма надо было снова переправиться через Сейм — здесь он был поуже, но достаточно глубок. Девушки нашли полную воды лодку, выплескали часть воды старой консервной банкой и переплыли реку, гребя каким-то обломком дощечки.