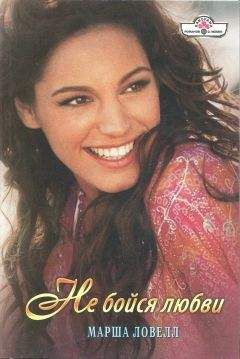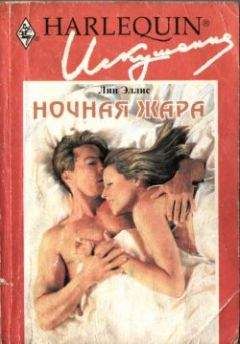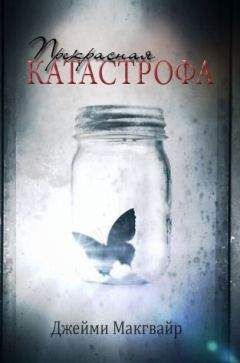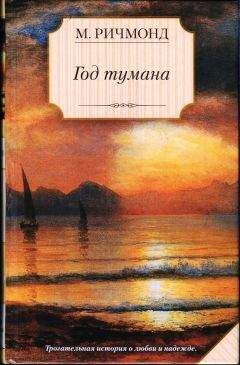Зиновий Давыдов - Из Гощи гость
На рассвете запахнули на себе слепцы дырявые гуньки[154], а толстоголосый поводырь затянул потуже свой разузоренный медными гвоздиками кушак.
— Шуба на тебе, человек божий, царских плеч, — молвил толстоголосый, оглядывая Кузёмку. — Жалованная али скрал где?
Кузёмка не нашелся что ответить и вместе со слепцами побрел через площадь к торговым рядам.
— Эта шуба дадена тебе в утешение за мерина твоего чалого, — продолжал толстоголосый, идя бок о бок с Кузёмкой. — А ты теперь вороти назад на Можайск, назад вороти…
Толстоголосый на ходу гладил Кузёмкин тулуп, щупал его по вороту и рукавам, расхваливал и овчину, и шитво, и скорнячью работу… Кузёмка ёжился и хотел было поотстать либо и совсем повернуть в другую сторону, но толстоголосый, уже подходя к рядам, молвил:
— Ходи с нами на Можайск, братан; будешь у нас пятый. Веселей дорога, легче путь. Вот пройдем напоследях ряды — и скатимся за околицу. А за ночлег я с тебя брать не стану; ночлег тебе даровой.
Места между Вязьмой и Можайском были боровые и шалые. Там еще с царя Бориса поры укрывался беглый люд из деревень и посадов, и помещики рыскали по дорогам, хватая всякого мужика, какой бы ни попался навстречу. Кузёмке думалось, что пройти со слепцами будет безопаснее: убогого человека, может быть, и не зацепит встречный лиходей.
Кузёмка решил не отставать от слепцов. Он брел за ними по торговым рядам — шапочному, котельному, ножевому, — где торговые люди, наживая деньгу на деньгу, сбывали товар с прилавков, шалашей, рундуков. Слепцы останавливались на перекрестках, где гуще толпился народ, и поводырь начинал толсто:
Кормильцы ваши, батюшки,
Милостивые матушки!
Слепцы у толстоголосого были как на подбор: у одного глаза навыкате, у другого — одни бельма, у третьего и вовсе срослись веки. И пели они на разные голоса, жалобно и не толсто, с толстоголосым в лад:
Узнают гору князья и бояре,
Узнают гору пастыри и власти,
Узнают гору торговые гости.
Отнимут они гору крутую,
Отнимут у нищих гору золотую,
По себе они гору разделят,
По князьям золотую разверстают,
Да нищую братью но допустят.
Много у них станет убийства,
Много у них будет кровопролийства…
Но хоть не пал еще и первый снег, а народ был здесь тощ и зол, и торги были худые. С голодных лет опустела половина посада, посадские разбежались кто куда, а оставшиеся были непосильными поборами прижаты вконец.
— Полавошное[155] платим? — кричал, завидя слепцов, скуластый купчина, разместившийся на скамейке под холщовым навесом с яблоками и мочальными гужами.
— Платим, — откликался другой, торговавший напротив лыком и подсолнечным семенем.
— С мостовщины платим? — взывал гужевой.
— Платим, — подтверждал сосед.
— Поворотное платим? — не унимался скуластый.
— Платим, — слышал он одно и то же, точно аукал в лесу.
— А проплавное? — орал скуластый подошедшему поводырю прямо в плоское его лицо.
— Платим и проплавное, — плевал поводырю в ухо подсолнечною шелухою купец, торговавший подсолнечным семенем вроссыпь.
— А весовые, оброчные, полоняничные, кабацкие, кормовые?..
— И кормовые платим.
Слепцы, не выдержав крику торговых людей, отступали в заулок, к опрокинутым рундукам. Но разошедшиеся купчины не могли уняться сразу, и скуластый, размахивая веревочным гужом, все еще гремел на весь ряд:
— Едешь на торг — плати головщину!..
— Катишь в обрат, — гудело из лавчонки напротив, — давай задний калач.
Толстоголосый, кое-как выбившись из заваленного всяким хламом заулка, брел со своими слепцами дальше, к палаткам иконников. Здесь, казалось ему, богомольный народ, может быть, отзывчивей будет к слепым.
Куда нас, убогих, оставляете,
На кого нас, убогих, покидаете?..
Но и здесь улов не был обилен сегодня: только моченое яблоко да заплесневелый сухарь. Поистине без сожаления покидали слепцы этот город, пройдя по рядам и выбираясь между возами на дорогу. И стали они все вместе скатываться за околицу: трое слепцов, четвертый — поводырь да Кузёмка пятый.
VI. Старый знакомый
Чудо свершилось, едва только слепцы миновали последнюю кузницу. Они прозрели… прозрели все сразу: и Пахнот с глазами навыкате, и Пасей, на чьих бельмах заиграли зрачки, и даже кургузый Дениска, у которого тоже разверзлись наконец очи.
— Дива! — хлопнул себя по тулупу восхищенный Кузёмка и обернулся к отставшему поводырю, в котором никакой нужды не имели теперь его зрячие товарищи.
Кузёмка глянул толстоголосому в плоское лицо, с которого уже сошла вся его благость, и вдруг вспомнил! Вспомнил и придавленный нос и серьгу в ухе; даже хрипловатый, толстый голос его услышал:
«Моя она, боярин, моя полонянка… Знатный будет мне за нее выкуп».
И сразу вспомнилось Кузёмке и майское утро, и набат, рвавший небо со всех московских колоколен, Шуйский на Лобном месте кулаком грозится, Пятунька-злодей у ног боярина своего зубы волчьи скалит… Еле увел тогда Кузёмка князя Ивана с площади за торговые ряды, отвел от князя неминучую беду. А там, за рядами, два голяка вцепились друг другу в окровавленные рожи, кругом куча добра разметана, золотоволосая женщина в беспамятстве на земле распростерта. И вот один, плосколицый, с медною серьгою в ухе, одолев неприятеля своего, встал на ноги, растерзанный в прах, и, тяжело дыша, молвил князю Ивану:
«Моя она, боярин… Знатный будет мне за нее выкуп. А коли не дадут, так будет литовке смерть».
Голос у плосколицего был необычаен: он был толст и хрипловат, и Кузёмка теперь его вспомнил. Вспомнил и то, как князь Иван хватил пистоль и выстрелил толстоголосому в ноги. Тот взревел и пополз вдоль запертых лавок по пустынному ряду.
А теперь он шагал за Кузёмкой под Вязьмой, в порубежных местах, и толсто ругался всякий раз, как попадал в вязкую колдобину. Кузёмка обернулся и еще раз глянул ему в плоское лицо.
Он?
Он.
VII. Сапоги украли
Темный лес. Непроходимая грязь. Ими сильно порубежье; чащобой, беспутицей да перекатною голью в деревнях и в посадах. По осеням и веснами, в великое распутье, не нужны были государю-царю ни каменные крепости, ни заставы, ни казачьи станицы по порубежным дорогам. Земля сторожила себя сама.
Но там, где не проехать ратникам или пушкарям не протащить своих пушек, не так уж трудно было Кузёмке пробраться скоком-боком меж кривой колеи и наполненной рыжею водою ямы. На то и орясина в руке, чтобы вымерять, сколь глубока широкая рытвина, залитая до краев жидкою грязью. Но никакая орясина не заменит теперь Кузёмке его яловых сапог, а сапоги украли у Кузёмки еще неделю тому назад в Колпитском яму[156] первом после Дорогобужа.
«Беда мне! — раздумывал Кузёмка, хлюпая лаптями по грязи, след в след за попутчиками своими. — Еще коли я наживу яловые сапоги! Будешь теперь, черт Кузьма, топать в липовых».
И то: были сапоги у Кузёмки с напуском, тачал их Артюша — лучший чеботарь в слободе, работал из казанской яловичины… Кузёмка потянул носом, и показалось ему: как и неделю тому назад, повеяло в воздухе запахом новой кожи, чистого дегтя… Искушение, да и только! И как это приключилось с Кузьмою в Колпитском яму?
В мокрых своих лаптищах сигнул Кузёмка с пенька на пёнышек и, не теряя из виду слепцов с толстоголосым поводырем, выбился на чуть обсохшую тропинку. Здесь Кузёмка пошел бодрей, перебирая в памяти события последней недели.
Вот пришел он в Дорогобуж, Кузьма, в сапогах и тулупе, с коробейкой дорожной, весь как есть. Но в самом Дорогобуже ничего такого с Кузёмкой и не приключилось. Он грелся в кабаке, толкался по базару, смотрел, как дрались каменщики-коломнечи, согнанные в порубежные места для починки городских стен. А потом закатился Кузьма на Колпиту на своих на двоих на доморощенных и прикатил на ям к вечеру, когда уже смеркаться начало.
Здесь никто не предложил ему ни тройки гуськом, ни даже колымажки в одну упряжку. По приземистому Кузёмке видно было, что не посольский он гонец, не какая-нибудь птица-синица, хотя и борода росла у него густо, и сапоги были на нем яловые, и тулуп неплох, только зачем-то сильно дран по груди и по брюху. Да и Кузёмке того не надо было. Горшок щей да угол в избе, чтобы завернуться в тулуп, — с него и этого б хватило.
Кузёмка постучался в одни ворота — ему никто не ответил. Постучался в другие — выглянул востренький старичок, который, завидя Кузёмку, замотал головой:
— В разгоне, сынок, все в разгоне. Так и скажи своему боярину: все в разгоне.
— Да мне не лошадей!
— Лошадей?.. Нетути, сынок, лошадей. Всех разгонили, какую на Вязьму, какую в Дорогобуж… Нетути. Последнего даве припрягли, приставы проезжали.