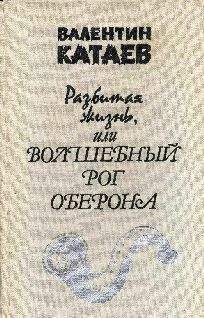Валентин Катаев - Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона [Рисунки Г. Калиновского]
Акилина Афанасьевна считалась у нас в семье как бы дальней родственницей и появлялась иногда по большим праздникам.
Однажды мы с мамой ходили ее навестить в Стурдзовскую общину — нерусское здание, построенное из какого-то крепкого дикого камня, с часами над входной дверью, — и я помню темный узкий коридор, в холодных сумерках которого перед иконой горела цветная лампада, подвешенная на трех цепочках.
…Во всю длину коридора лежала ковровая дорожка, делавшая наши шаги неслышными…
Мама не успела меня схватить за руку, как я уже отцепил цепочку с гвоздика и лампадка тяжело, со стуком упала на пол, погасла, зачадила, лампадное масло потекло по ковровой дорожке, и самое ужасное было то, что в тот же миг в глубине коридора показалась фигура настоятельницы общины в черной царственной мантии, с высоким посохом в руке, с грозным выражением бледного худого лица с высоко поднятыми, густыми, как усы, бровями.
Я так испугался — в особенности меня испугали ее резные кипарисовые четки, висящие на руке, — что едва не потерял сознание, а она приблизилась ко мне и легко, но довольно чувствительно шлепнула меня по рукам, проговорив сквозь сжатые губы:
— Скверный шалун.
Я уже сейчас не помню, как меня увели из общины, где я так оскандалился, но с тех пор у меня почему-то появилась уверенность, что Акилина Афанасьевна принимала меня именно отсюда, из этого сумрачного коридора с узкими готическими окнами, с чадящей на ковровой дорожке лампадкой и черной фигурой настоятельницы, простершей ко мне свой высокий посох, и в моей душе всегда жила благодарность к Акилине Афанасьевне за то, что она приняла меня и вынесла меня отсюда на своих мягких пухлых руках на свет божий, в мир, где горело солнце, трепетала листва, прыгали воробьи и по небу над длинной железной крышей когановского приюта бежали веселые облака, гонимые ланжероновским ветром.
Теперь в темной гостиной я увидел маму и Акилину Афанасьевну с ее кожаным акушерским саквояжем на коленях. Я заметил на столике открытую книгу, такой книги у нас не было: наверное, ее принесла с собой Акилина Афанасьевна. Хотя было довольно темно, но я заметил, что это книга с картинками, и тотчас влез на мамины колени, с тем чтобы посмотреть картинки. Мне было неудобно сидеть на маминых коленях, так как меня подпирал ее очень потолстевший за последнее время живот, на что я, впрочем, не обратил особого внимания. Я тянулся к открытой книге, желая рассмотреть рисунок, совсем неразборчивый и непонятный в потемках. Этот рисунок казался мне странным, необычным, так как я не находил в нем изображения знакомых предметов — людей, деревьев, животных, домов, то есть всего того, что обыкновенно бывает в книгах и называется картинками.
Я увидел рисунок, изображавший нечто похожее на несколько скрюченный огурец с подогнутой крупной головой и, как мне показалось, сонно закрытым детским глазом.
— Что это такое? — спросил я маму.
— Это не для детей, — ответила мама.
— Да, но все-таки что это такое? — настаивал я.
— В темноте не разберешь, — улыбаясь, сказала Акилина Афанасьевна, желая все это повернуть в шутку.
Тогда я стал требовать, чтобы принесли лампу. Лампу принесли, но книга тем временем исчезла. Ее куда-то от меня спрятали. Исчезла картинка, вызвавшая в моей душе беспокойство.
Утром я почувствовал, что в доме что-то неладно: мама не вставала с постели, папа ходил по комнатам и, как видно, не собирался ехать на уроки. В гостиной снова появилась Акилина Афанасьевна со своим саквояжем.
Меня напоили чаем с молоком, одели тепло, как для длительной прогулки, в пальто и гамаши, и мама, поцеловав меня сухими губами в лоб, сказала, что кухарка отведет меня на целый день в гости к одним знакомым, которые живут за циклодромом, недалеко от Ланжерона, против пустыря, где впоследствии разбили новую часть Александровского парка, а тогда там рос бурый осенний бурьян, доходя до самого обрыва, как бы повисшего над бушующим грязным морем, и шквалистый штормовой ветер гнул в одну сторону и заставлял трепаться сухие кусты перекати-поля и будяков и нес в лицо холодную пыль, смешанную с пухом репейника.
Мне было холодно в моем осеннем пальтишке, из которого я немного вырос, и в тонких шерстяных гамашах.
Ежась, я вошел в незнакомую мне квартиру, где меня уже ждали. Выбежали две девочки, вышла с ласковой улыбкой их мама, затем я увидел их папу — полковника с бакенбардами, в мундире офицера пограничной стражи.
Он качался в качалке и милостиво потрепал меня по щеке своей костлявой рукой, напомнившей мне руку покойного екатеринославского дедушки, маминого папы, того самого, который некогда подарил мне Лимончика.
У моих новых знакомых была просторная, богатая квартира с теплой застекленной террасой, полной тропических растений и клеток с канарейками, там стоял длинный обеденный стол и вокруг него дачные плетеные стулья.
Девочки были старше меня — высокие, худенькие, вежливые, приветливые. Они развлекали меня, как воспитанные хозяйки развлекают не очень интересного гостя: меня поили какао с рогаликами, показывали картонный игрушечный театр, рисовали вместе со мной на особом матовом стекле разные предметы, и во всем их милом, деликатном поведении сквозило непонятное сочувствие, грусть, даже тревога.
Их мама курила очень тонкие папироски, сбрасывая сиреневый пепел в перламутровую раковину, время от времени подзывала меня к себе и гладила мои стриженые, жесткие на макушках волосы…
(Не забывайте, что у меня было две макушки, я был «счастливчик»).
…Причем выражение ее лица делалось сочувственно-грустным и вместе с тем полным скрытого любопытства.
Наша кухарка давно уже ушла, и я слышал, как мать девочек сказала ей, чтобы обо мне не беспокоились: если дело затянется, то я буду ночевать у них в гостиной на стульях.
Но что же могло затянуться?..
Тревога охватила мою душу. Я чувствовал все усиливающееся беспокойство, к которому почему-то примешивалось представление о саквояже Акилины Афанасьевны и картинке в книге, смысла которой я не мог разгадать, хотя мне казалось, что загадка моего пребывания в чужом доме заключается именно в этой неразгаданной картинке, в этом как бы скрюченном тельце с большой сонной головой, опущенной вниз, в этой странной личинке, которую мне вчера не хотели показывать при свете принесенной лампы.
…кажется, ее звали не Акилиной Афанасьевной, а Саввишной. Да, именно так. Но это не имеет значения, как не имело бы значения, если бы ее звали не Акилиной, а Гликерией…
У девочек была бонна, и она водила нас гулять на Ланжерон, где высокий прибой обрушивался на скалы и взбаламученное море кое-где просвечивало резкой зеленью октябрьского шторма.
Мне по-прежнему было холодно, и бонна подняла мне воротник с маленькими вышитыми якорями и закутала мою шею гарусной шалью, отчего я почувствовал себя еще более сиротливо.
Под темными тучами, низко бегущими одна за другой над Ланжероном, возле обрыва в сухом бурьяне лежали производившие учение солдаты, как я узнал от бонны — рота «искрового» телеграфа. Они запускали в небо полотняный, так называемый змейковый аэростат, и он, треща под напором шквалистого ветра, уходил по косой линии все выше и выше к черным тучам на тонком стальном тросе, разматывающемся, скользящем с большой железной катушки, который постепенно выпускали солдаты с зелеными погонами, лежащие в репейнике. Рядом с ними в репейнике стояли полированные деревянные ящики электрических батарей, соединенных черным проводом со змейковым аэростатом, откуда время от времени, как мне казалось, выскакивали маленькие синие молнии — искры электрических разрядов искрового телеграфа.
Бонна объяснила нам, что солдаты посылают электрические телеграфные сигналы на миноносец, нырявший в штормовых волнах против Ланжерона. Я видел на мостике миноносца маленькую фигурку матроса, который, как мельница, махал двумя сигнальными флажками.
Во всем этом было что-то новое, зловеще-военное, какое-то темное предзнаменование, и я, спрятав ручки в рукава своего короткого пальтишка, чувствовал себя совсем сиротой.
Я провел у знакомых целый день, завтракал, обедал и ужинал, причем, помню, меня поразило богатство ужина: солдат-денщик в зеленых пограничных погонах и в белых нитяных перчатках подал блюдо жареных куриных котлет с зеленым горошком, а на столе на фаянсовой дощечке стоял большой кусок слезящегося швейцарского сыра с крупными дырками.
Наступил вечер. Стемнело. С Ланжерона дул ветер.
Уже давно зажгли лампы. В аквариуме уснули золотые рыбки, повисшие как загипнотизированные среди водорослей, осыпанных бисером воздушных пузырьков.
Странный день, проведенный у чужих людей, впечатление от змейкового аэростата с его цветными полотняными плоскостями, который косо уходил вверх, в тучи, искры, выскакивающие из антенны, гул штормового моря и качающегося бурьяна утомили мой мозг, глаза мои сами собой закрывались, я стал капризничать, и мама девочек наконец велела укладывать меня спать на составленные стулья в гостиной, среди араукарий, бронзовых статуэток и больших картин в золотых рамах, из которых одна особенно восхищала и в то же время пугала своей красотой: черноглазая неаполитанка с поднятым бубном.