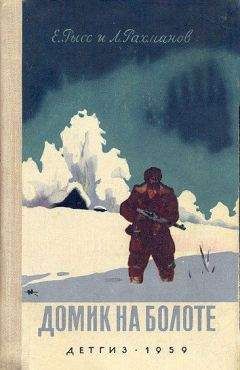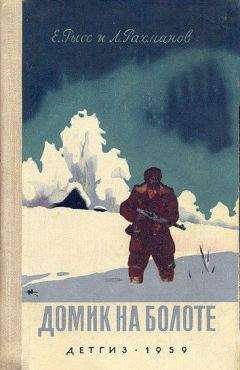Эдуард Корпачев - Тройка запряженных кузнечиков
— Чистая случайность, — сердито заметил отцу и Харитон Иванович, еще не взмокший, свежий, лишь готовящийся к забегу, и кликнул зычно: — Санька, где ты?
— Здесь я, — лениво ответил ветеринару Санька. — Чистая случайность, Харитон Иванович, я с вами согласен. Просто фортуна, удача…
— А ежели так — давай со мной померимся! — с вызовом уставился ветеринар черными недружелюбными глазами. — Не сейчас, а в самом конце. Нехай конь отдохнет — и померимся. — И он даже чиркнул ладонью о ладонь, как бы предчувствуя уже борьбу на кругу, бешеный бег, злое, неуступчивое состязание.
— Я вас обставлю в следующий раз, — почти клятвенно пообещал Санька, вновь усаживаясь на сиденье качалки. — А сегодня не стану мучить коня. Вы же сами, как врач, понимаете: нельзя губить коня.
И то, что этот самоуверенный Санька, только сейчас вырвавший победу в заезде, уже так спокойно, обдуманно, иронично отвечал ветеринару, обещая выиграть у него как-нибудь в следующий раз, еще более рассердило ветеринара: Тот, резко чиркнув ладонью о ладонь, за уздцы потащил свою лошадь на круг ипподрома.
На отца же Авера стыдился глянуть даже, не знал сам, куда ему деваться, и впервые утешился тем, что до срока не вернулась из приморской лечебницы пропахшая ветрами Прибалтики мама и что не видела она этого срама.
Хотя, если рассудить, все равно кто-то из очень близких ей людей должен был проиграть.
Так хотел сам отец, так он и настоял, так все и случилось: в один и тот же дом пришли победа и поражение. А если посудить, то никакого поражения и не было, поскольку в дом их все равно пришла победа. Именно так подумал Авера, именно так подумал, наверное, и отец.
— Мы выиграли! — с улыбкой сказал отец людям.
— Выиграли, выиграли! — согласно подхватили из толпы. — Не батька, так сынок. Выиграли, Иван Харитонович!
Грустная песенка
А в доме этом, куда одновременно пришли победа и поражение, жили по своим законам дружбы. Если кому-нибудь не везло, другие старались вернуть ему мужество добрым словом, улыбкою, рукопожатием: не робей, старик, все пройдет, и не такое бывало с нами в партизанах!
Вернуть человеку мужество — это значит порою промолчать, не выдать своего сочувствия, уйти и не мозолить глаза.
Авера так и поступил: мимо конюшен, по шляху, обсаженному с обеих сторон тополями и вербами, незаметно, тихонько удалился он прочь.
А там — опять на пароме, через Днепр, а там — опять береговою стежкою, а там — опять в одиночестве…
И, оглядывая просторный, уставленный свежими, июньскими стогами луг, он подумал о матери, о том, как сумела бы мама успокоить всех привычными словами: «И не такое бывало с нами в партизанах». Столько раз он слышал эти слова, звучавшие всегда с каким-то новым значением! И вот теперь не произнесенные, но все равно звучавшие непрестанно слова обещали ему разгадку каких-то неизвестных ранее грозных событий, происходивших с отцом когда-то на войне, в партизанах.
И не такое бывало с нами в партизанах!
Очень удобно устроился он в стогу дурманящего своим свежим запахом сена, сидел, привалившись спиною к стогу и ощущая затылком колючие, усохшие былинки.
Он смежил глаза, попытался уснуть и увидеть какой-нибудь безобидный сон — допустим, кузнечиков, запряженных тройкою, и как они покорно тащат пластилиновую повозку, эти дрессированные кузнечики, как делают остановки в пути и вновь трогают с места экипаж…
Может быть, и приснилось бы ему задуманное, если бы вдруг не послышались знакомые голоса, не послышался топот бегущих коней. Он открыл глаза, увидел приближающихся в своих качалках отца и Харитона Ивановича и замер, желая остаться незамеченным. Пусть пронесутся мимо, пусть не придется отцу прятать глаза!
Наездники же не заметили его и потому остановили коней у этого стога, где был Аверин скрад, спрыгнули на землю, сошлись и приблизились к стогу.
Тут уж неудобно было скрываться — Авера поднялся на ноги.
— Встань передо мной, как конь перед росой! — удивленно воскликнул отец, не ожидавший, конечно, такой встречи. — А мы с Харитоном Ивановичем объезжаем, смотрим луга… Прекрасное сено, Аверкий Иванович!
И отец обратил лицо к лугу, стал смущенно говорить все о том же сене, распрекрасном сене, а Авера проклинал себя за то, что не мог спрятаться где-нибудь подальше от дороги, в глубине луга.
Потом они с отцом встретились настороженными взглядами, и Авере померещилось, будто каждый из них мысленно все еще находится там, на кругу ипподрома.
— Доволен, Аверкий Иванович? — весело спросил отец.
— Ведь мы победили? — в свою очередь, спросил Авера.
— Победили! — подтвердил отец, рассмеявшись вдруг, и метнулся к своей качалке, ударил поводьями по крупу коня, взял с места крупной, машистой рысью.
Авера смотрел вслед, и в глаза, казалось, летела пыль. Хотя никакой пыли не могло подняться над мягкой, травянистой луговой стежкой.
Харитон Иванович повозился со своей качалкой, для блезиру постучал сапогом по узким шинам высоких колес качалки, чиркнул ладонью о ладонь и открыто посмотрел на Аверу.
— Он правду сказал, Аверкий Иванович, — требовательно произнес он. — И не распускай нюни. Все мне понятно: тут и Связист, и эта сказочка про кузнечиков. А только пора и тебе понять, что сказочки для тебя кончились. А жизнь — она строгая, она складывается по-своему. Вот какая грустная песенка, Аверкий Иванович.
«Да, — соглашался с ним Авера. — Не увидеть мне больше Связиста, не увидеть кузнечиков в упряжке».
— А думаешь, нам, усатым людям, не хочется сказок? — усмехнулся Харитон Иванович. — Помнишь, на ночлеге батька твой мечтал вернуться в детство, в партизаны? Дудки. Никогда не бывать нам пацанами, Аверкий Иванович. Такая штука жизнь!
— А что же остается? — вырвалось невольно у Аверы.
И он тут же спохватился, думая, что сейчас услышит что-нибудь знакомое, слышанное не раз: «И не такое бывало в партизанах». Напрасный вопрос!
— Остается жить, Аверкий Иванович, — быстро отозвался человек. — Остается такое прекрасное дело: жить!
Авера удивленно оглянулся, потрясенный простым, совсем простым ответом.
Остается жить? Ну да, остается жить — это значит остается подрастать, остается переправляться через Днепр на пароме, идти по скошенному лугу и петь веселую песню, потом взбираться на стог сена и соскальзывать оттуда, с верхотуры, вниз, потом возвращаться на конезавод и кормить лошадей с ладони, мечтая о том времени, когда он, Авера, сам сядет в качалку и померится силами с удачливым Санькой.
Остается жить, остается жить. И это уже совсем другая, веселая песня!
Апрельское море
Тень птицы иногда ложилась на пожуркивающую под веслом воду, рядом с лодкой. Степик налегал на весла, почти падая на спину и тут же кланяясь себе в ноги, точно стремился подшибить веслом бесплотную тень или опередить ее, но уже исчезало неуловимое, скользящее очертание, лишь оставался голосом улетевшей птицы всхлипывающий скрип уключин.
А вот и другая крылатая тень пласталась по воде. Степик задирал курносое бледное лицо, щурился, ничего не видя от апрельского, близкого солнца, бьющего с небывалой, точно сквозь увеличительное стекло, яркостью. Тогда Степик отводил глаза с навернувшимися слезками вниз, к воде, ничего не видя и теперь, только круглый диск солнца, темный какой-то диск солнца, продолжавший некоторое время оставаться перед слепыми глазами.
И то ли скрипели уключины, то ли дразнили пролетающие птицы, — не помнят, так что Степик уже мысленно, в воображении, хватался за охотничье ружье, бил удачно и сквозь пороховую голубую дымку наблюдал, как снижается подбитая дичь. Очень он любил воображать, представлять, и столько необыкновенного, героического было во всех его вымыслах! Он даже поискал качающуюся на воде тушку дичи, хотя и не могло быть никакой дичи, никто не палил из ружья. Он так увлекся выдумкою, что даже лодку развернул вспять, к городу.
— Но-но! — строго окликнул от кормы Геннадий, держа переломленное и не выстрелившее ружье. — Следи за курсом!
И Степик качнул головой в берете, Степик поиграл веслами, выравнивая лодку, мерно стал грести, заваливаясь на спину и кланяясь себе да Геннадию, себе да Геннадию, крепкому, широкоплечему, надежному дружку своему, которого обожал, как старшего, хотя были они одноклассники, но вот обожал за немногословие, за сдержанность, за его мужскую какую-то хватку, за его глаз охотника. Такой спокойный, сильный друг у него, такая у них шикарная плоскодонка, такое ружьецо и такая упругая, гулкая от воздуха камера автопокрышки!
— Ну что, — голосом бывалого странствующего человека проговорил Геннадий, выпрямляя ружье, — мы вышли в открытое море?
Степик глянул с восторгом вдаль, на высокий, словно крепостной вал, берег с голыми еще деревьями, с крышами, трубами, зеркальцами окон того города, где они жили и где сегодня с самого утра готовились к походу, к новой какой-то жизни готовились, и где отец Геннадия, накачивая насосом автомобильный баллон, говорил им раздумчиво такое: