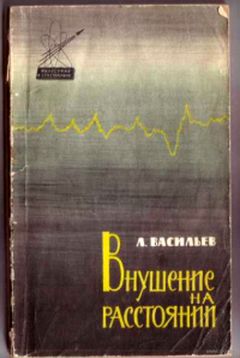Владимир Кобликов - Берестяга
А Берестняковы жили так же зажиточно, как и до войны, а то и побогаче. Бабка Груня тайком от мужа и внука наменяла немало «городских» вещей и складывала их в свой заветный, окованный железом, сундук. И денег накопилось у нее немало. Старуха продавала продукты на базарчике в леспромхозе. Это о таких, как Берестнячиха, говорили: «Для кого война, а для кого — мать родна».
Дед Игнат пытался стыдить жену, но она его и слушать не хотела.
— Помалкивай, старый дурень. Не твоего ума дело, — каждый раз огрызалась бабка Груня. — Истинно: простота — хуже воровства. Дай те волю, все бы ты роздал, непутевый. Обожди, ужо вспомнишь меня, когда черны дни придут!
— Не накликай беды, толстосумка. Богу молишься, а людей обираешь. Вот пропишу сыновьям на фронт, что спекулянничаешь. Дождешься, все пропишу: и как обобрала жену красного командира, и как кубышку завела — все, как есть, поведаю ребятам.
Бабка Груня, если чего и опасалась, то только исполнения этой угрозы, но хитрое ее сердце подсказывало, что дед Игнат не напишет сыновьям о ее проделках: не захочет добрый и справедливый отец расстраивать своих сыновей.
И Берестнячиха продолжала наживаться на горе и нужде других людей, людей, которые вынуждены были бросить свои города, дома, все свое добро.
Под одной крышей в старом доме Берестняковых теперь жили два кровных врага: дед Игнат и его нелюбимая жена. А Прохор, хоть и не знал всех бабкиных дел, больше держал сторону деда. Прохор всегда знал, что тот добрее, а главное — справедливее бабушки.
Берестяга обрадовался, что бабка Груня пригласила Самариных ужинать. Он никак не мог смириться, что он, дед, бабка едят наваристые щи, мясо, картошку и кашу со шкварками, сметану и хлеба вволю, а Таня и Наталья Александровна — похлебку постную, в которой «крупинка за крупинкой гоняется», с хлебом «вприглядку». У Прохора кусок поперек горла застревал от такой несправедливости. А бабушка все твердила, что «всякому свое и еще неизвестно, что будет впереди-то».
Пытался Прохор тайком делиться с Таней едою, но она гордо отказывалась… Прохор мучался.
Дед Игнат и Прохор думали, что Самарины откажутся от приглашения, но Самарины пришли. Они не меньше, чем Игнат с внуком, были удивлены «щедростью» хозяйки. Бабка Груня уставила стол всякой едою. В центре стола красовалась деревянная миска с огромными сгибнями и пирогами с ливерной начинкой. Желтобокие пироги поблескивали румяными корками и дразнили ноздри густым и ядреным запахом русской печки и пропеченного теста.
— Добрые вести пришли в дом наш. Кушайте, гостюшки, — пригласила бабка Груня, — угощайтесь, чем бог послал.
«Старая ведьма!» — ругал Игнат притворную жену. «Ничего себе, чем бог послал», — подумала Наталья Александровна.
Таня потупилась, чтобы не видеть дразнящих закусок. Ей хотелось встать и уйти. Девочка не любила старуху и поэтому не хотела дотрагиваться до ее угощения. А Прохор ни о чем таком не думал. Он просто радовался, что за столом опять собрались вместе Самарины и Берестняковы.
— Александровна, — по-отечески, ласково обратился дед Игнат к Наталье Александровне, — гляжу, давно не приходило писем от твоего-то.
— Давно, Игнат Прохорович. Так давно, просто не знаю, что и думать.
— Не печалься, Александровна. Даст бог, все будет хорошо… Давай-ка выпьем с тобой самогоночки. Оно и полегчает… Поверь мне, полегчает. Ты не брезгуй: она чистая, что слеза Христова.
— Не греши, старый дурень, за столом-то.
— Помалкивай, — вдруг цыкнул на жену Игнат, — знаю, что говорю. Не то что некоторые — богу молятся, а черту кланяются.
Бабка Груня тут же смекнула, на что намекает старик, и сама неожиданно стала его поддерживать. Старуха «запела» своим медовым голосом:
— И, правда, касатушка, выпей с Игнатом, выпей за нашу радость и чтобы к тебе радость пришла. Ведь радость, как и горе, в одиночку не ходит.
— Выпей, Александровна, — грустно и добро оказал Игнат.
— Уговорили, Игнат Прохорович.
Прохор ждал и надеялся, что квартиранты наедятся сегодня досыта, а Самарины съели по пирожку, да сгибень на двоих, и еще кой-чего понемногу и встали из-за стола, благодаря за угощение. Встали, будто каждый день им доводится есть и баранину, и огурчики соленые, и картошку тушеную с требушкою, и груздочки, и хлеб чистый, без примеси.
Дед Игнат только понимающе покачал головой. А бабка Груня сидела, как ни в чем не бывало. Ей неведомы были гордость и благородство, поэтому она удивленно уставилась на мать и дочь, вставших из-за стола.
— Куда же вы встаете от харчей таких? Даром, чай угощаю-то. За так.
— Спасибо, Аграфена Наумовна.
Когда Самарины ушли к себе, Берестнячиха причмокнула ниточками-губами, сузила свои бегающие глазки и сказала еле слышно, словно змея прошипела:
— Ишь! Гордая! И детеныш — гордый. Погодите, заморские крали! Голод — не тетка.
— Замолчи, отрава, — дед Игнат неожиданно стукнул кулаком по столу. И от этого подпрыгнули в деревянной тарелке желтобокие с румяной корочкой пироги.
Бабка поперхнулась и выскочила из-за стола.
Дед Игнат низко-низко опустил голову. Прошке показалось, что на голове у деда не волосы, а пакля вокруг лысины налеплена. Старик вдруг махнул рукой, налил полную кружку самогона и стал медленно пить. А выпив, разломил пирог и потянул в себя запах ноздреватого, пышного излома. Крякнул и сказал внуку:
— Греби пироги: раздашь ребятам в школе. Каким поголодней.
Прохор сразу вспомнил, что они с Таней собирались сегодня отнести очки Лосицкому.
* * *На улице было тихо-тихо. Снег перестал идти еще днем. Мороз перехватывал дыхание, обжигал. Без огней деревня опять казалась вымерзшей или крепко спящей. На землю глядели далекие и яркие звезды. Таня и Прохор шли торопливо. Их подгонял не только холод, но и торопило обманное чувство, что сейчас уже полночь.
Ольга Евгеньевна с Сашей жили в центре деревни у Анны Цыбиной, которую в Ягодном звали «председательшей», потому что муж у Анны до войны был председателем колхоза. Анна осталась с пятью детьми. И все они мал-мала меньше. Жилось теперь Анне нелегко. Но правду говорят: кто с нуждою знаком, у того сердце щедрое. Анна Цыбина сама вызвалась взять на квартиру Ольгу Евгеньевну и Сашу. Когда Анна увидела их, то сердце у нее защемило от жалости. Председательша сразу почувствовала, что они — не просто эвакуированные, или беженцы, как попросту в Ягодном называли эвакуированных, а люди, у которых в сердцах неизлечимая печаль.
Анна очень хорошо знала, что трудно придется таким в Ягодном, и твердо решила взять эту «двоечку» к себе. Как ни странно, но решение ее упрочилось, когда она догадалась, что у беженки и ее «внука» ничего нет, кроме того, что на них надето.
Анна привела их к себе домой и, ни о чем не договариваясь и не расспрашивая, накормила. Потом натопила баньку и дала чистую смену белья и платья: Саше — мужнино, Ольге Евгеньевне — свое.
— Не обессудьте, — сказала Анна грубовато, — какое есть, такое и даю. Шелков не нашивала, зато чистое и крепкое.
И Ольга Евгеньевна, на вид такая скупая на слезы, заплакала. Она поняла: грубость, с какой Анна предложила им свои вещи, — напускная. Эта женщина с усталым взглядом и торопливыми движениями — добра и бескорыстна.
— Спасибо вам, — только и смогла произнести Ольга Евгеньевна.
С тех пор семья Анны Цыбиной увеличилась на два человека.
И хотя оказалось, что Ольга Евгеньевна даже простой похлебки сварить не умеет, все же Анне жить с квартирантами стало веселее и даже как ни странно, легче. Саша без усталости помогал Анне: нанашивал из колодца воды, пилил и колол дрова, чистил закуты.
Ольга Евгеньевна, чтобы хоть чем-то быть полезной, взялась за воспитание хозяйских ребятишек. Трое из них ходили в школу. Петр учился в пятом, Надя — в четвертом, Сергей — во втором, а Зине и Васе, близнецам, осенью исполнилось по шесть лет.
Ольга Евгеньевна следила, как старшие цыбинские ребятишки учат уроки, а с младшими гуляла, учила их читать, писать, рисовать. По вечерам она устраивала громкое чтение. Даже Анна старалась не пропускать этих чтений. Садилась поближе к свету, шила что-нибудь, перекраивала, штопала (праздно, просто так, Анна сидеть не могла) и внимательно слушала. Читать-то Анне почти не приходилось после замужества. Чтение она, как и многие в Ягодном, считала блажью. Иногда Анна не все понимала из прочитанного и, не таясь, просила Ольгу Евгеньевну объяснить. Ольга Евгеньевна, как казалось Анне, знала буквально все.
Часто цыбинские квартиранты говорили на непонятном языке. Анна внимательно прислушивалась к чужой речи и беспомощно пожимала плечами. «Лопочут, словно «немцы», — удивлялась она. Однажды не выдержала и спросила:
— Это по-каковски говорите-то?