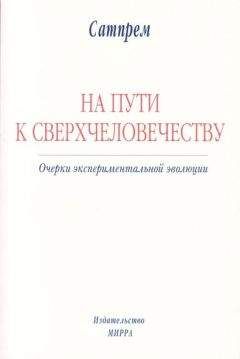Василий Авенариус - На Москву!
— Да, мертвецов. Нынче в бою пало тысячи четыре одних русских. За темнотой они еще в поле не убраны, не похоронены. А меж них, может, найдутся и такие, что не совсем убиты, а лежат только замертво. Не погибать же им! Так достанет ли у тебя духу идти туда ночью?
— Одному?..
— Нет, вместе со мной.
— О! С тобой, княже, я полезу сейчас хоть к черту на рога.
— Так идем же.
И вот они миновали лагерь, вот они уже и на поле битвы. Небо было обложено мглистой дымкой, и сквозь нее еле-еле пробивался сумеречный свет от взошедшей уже над горизонтом, но невидимой луны. Тем не менее, благодаря снегу, на белеющей равнине, довольно ясно различались, рассеянные кругом темными пятнами, неподвижные тела. Молча шагая между ними, Курбский по временам останавливался, наклонялся и прислушивался, не подаст ли кто голоса, не донесется ли откуда-нибудь хоть слабого стона. Но все кругом было до жуткости тихо, — настоящее царство смерти! Петрусь Коваль, который давеча так храбрился, ни на шаг не отставал от Курбского и пугливо озирался. Вдруг он схватился за рукав своего господина.
— Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй мя!
— Что с тобой? — спросил Курбский.
— А вот этот… Точно глядит на нас и смеется.
Действительно, лежавший навзничь с полуоткрытым ртом мертвец оскалил зубы, а белки его глазных яблок, широко выкатившихся из запрокинутой головы, тускло блестели.
— Нет, совсем окоченел, — сказал Курбский, ощупав рукой лицо покойника, и сделал над ним крестное знамение. — Упокой Господь его душу! Но как он, бедный, должно быть, мучился!..
Раскинутые врозь руки мертвеца скрюченными пальцами и то впились в снег, как в предсмертной агонии.
— Идем дальше, милый княже… — заторопил Петрусь, и они двинулись далее.
Так прошли они версту, другую. Тут впереди них показались две человеческие тени, и блеснул огонек.
— Смотри-ка, княже, — заметил Петрусь, — вон двое с фонарем. Зачем они здесь?
— За тем же, конечно, за чем и мы с тобой, — отвечал Курбский. — Послал их сюда, верно, пан Бучинский.
— А может, они просто обирают мертвецов?
— Не дай Бог!
— Но бывают же ведь и такие?
— Бывают, слышно; но это такое же злодейство!.. Нет, нет, зачем думать сейчас дурное?
— Вот они остановились, обшаривают одного…
— Не обшаривают, а смотрят, жив ли. Идем-ка поскорее, пособим им.
Есть люди, которые, благодаря своей светлой душе, ходят среди темной толпы как бы с зажженным светочем в темном бору, и видят одну лишь освещенную их светочем сторону дерев. Таков был и Курбский. Судя по себе, он и другим людям приписывал, прежде всего, добрые человеческие побуждения, какие были у него самого. На этот раз он жестоко ошибся.
Наклонившись над распростертым на снегу телом, те двое не расслышали приближения Курбского и Петруся, пока эти совсем не подошли к ним. Тут оба разом подняли головы. Фонарем, который один из них держал в руке, осветило лица обоих, и Курбский, к крайнему своему изумлению, в одном из них узнал старшего адъютанта, а в другом — шута гетмана.
— Пане Тарло! — вскричал он. — И вы, Балцер Зидек! Те, в свою очередь, были не столько удивлены, сколько смущены. Пан Тарло посулил кому-то «сто дьяблов»; Балцер Зидек же, мигом оправясь, отозвался с задорной фамильярностью:
— Как видите, собираем жатву, как и ваша княжеская милость! Но мы вас не выдадим, будьте покойны: ворон ворону глаз не выклюет.
Теперь для Курбского не могло быть уже никакого сомнения относительно цели, с какой те прибыли на поле смерти.
— С воронами у меня нет дела! — сказал он с нескрываемым уже презрением. — Мне нужны здесь не мертвые, а живые. А этот, слава Богу, кажется, еще жив.
— Жив, княже, но выживет ли? — отвечал Петрусь, опустившийся на колени перед лежавшим навзничь русским ратником, из груди которого вырывались слабые стоны.
— Выживет или нет, а мы сделаем для него все, что можем.
— Желаю вам успеха… — сердито буркнул пан Тарло и повернулся, чтобы уйти.
Но Курбский решительно заступил ему дорогу.
— Вы так не уйдете, пане! Сам я теперь моей левой рукой не владею. Поэтому вы не откажетесь, конечно, вместе с Балцером и моим слугой, отнести этого несчастного до лазарета.
— Чтобы я, рыцарь, нес простого ратника, москаля, да еще вместе с кем? С вашим слугой-быдлом! Вы, князь, простите, хороший человек, но в доброте своей доходите до Геркулесовых столбов. Извинить вас можно разве тем, что вы не поляк, и не знаете, что такое польский гонор!
И, отстранив рукой озадаченного Курбского, благородный пан не спеша удалился. Балцер Зидек, покинутый своим сообщником, хотел было также улизнуть. Но Курбский поймал его за ворот.
— Куда! Вы поможете нам снести беднягу в лагерь. Но прежде осмотрите-ка его рану: вы ведь кое-что смыслите в лечении.
Шут, уже не прекословя, стал ощупывать последовательно все тело умирающего. Добравшись так сперва до одной ноги, потом до другой, он промычал:
— Гм…
— Что такое? — спросил Курбский.
— Да кость под самым коленом раздроблена; а крови-то, смотрите, крови сколько!
— Надо, значит, сейчас же перевязать. Вы, Балцер, ведь и в перевязках мастер.
— Да ведь ему, ваша милость, все равно один конец: совсем истек кровью.
— Это решать не нам с вами. Доставить бы лишь живым в лазарет.
— Эх-эх! — вздохнул шут. — Человек только что ведь сбирался вкусить блаженство, а его силой назад тянут! Ну, что ж, хлопче, помоги-ка мне снять с него сапог.
Сапог был снят и рана перевязана; причем хирург поневоле прилагал все свои старания, чтобы угодить наблюдавшему за каждым его движением молодому князю. В заключение, когда все трое с возможной осторожностью приподняли все еще не пришедшего в память раненого с земли (Курбский одной правой рукой), заботливый Балцер Зидек не забыл захватить с собой и сапог ратника. Тут сапог выскользнул у него из-под мышки. Нагнувшись за ним, Балцер Зидек сначала, однако, схватил что-то другое с земли и сунул себе за пазуху.
— Ты что это, братику, поднял? — спросил его Петрусь.
— Видишь, сапог.
— Не о сапоге я тебя спрашиваю, а о том, что ты за пазуху спрятал.
— Ну, это у меня из кармана выпало.
— Так ли? Не из чужого ли сапога?
— Ну, полно, Петрусь, — вступился Курбский. — Место ли тут…
— Да ведь у нас, милый княже, на Запорожье многие казаки кошель свой, вместе с люлькой, за голенищем носят. Может, и этот тоже…
— Перестань, будет! — перебил Курбский. Однако, подозрение его было уже возбуждено, и он не мог уже отделаться от мысли, что Балцер Зидек присвоил себе деньги ратника. Сам шут удивительно присмирел, и только когда они подходили к лазарету, он заискивающе-униженно стал умолять Курбского никому не говорить об этой ночной их «прогулке».
— Вы сами, Балцер, расскажете обо всем военному суду, — холодно ответил Курбский.
Тот совсем опешил.
— Военному суду! Ваша княжеская милость шутить изволите. Клянусь горбом моей двоюродной тетки…
— Мне не до шуток, Балцер, — прервал Курбский. — А вот и лазарет.
Сдав умирающего лекарю, а шута под надзор двух ратников из царской хоругви, Курбский отправился к царевичу доложить обо всем, чему он только что был свидетелем на поле смерти.
Глава пятая
ВОРОНЬЕ ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ
Димитрий, после некоторого колебания, склонился на убеждения своего советчика и друга передать действия пана Тарло и Балцера Зидека на усмотрение военного суда. За поздним часом дело было, однако, отложено до утра, а поутру оно отодвинулось на второй план новым, более важным обстоятельством. От запорожцев, которых столько времени не могли доискаться, прибыл гонец с вестью, что четыре тысячи их, с кошевым атаманом Семеном Ревой, подошли, наконец, и расположились в трех верстах от лагеря. Надо было принять их с подобающею торжественностью, и вот навстречу дорогим гостям выехали рядом на своих кровных аргамаках обряженные по-праздничному царевич и старик гетман (совсем, казалось, оправившийся от своего недуга); впереди них выступали трубачи, литаврщики и барабанщики, исполнявшие воинственный марш; позади следовала, разумеется, вся блестящая свита обоих, а за свитой — взвод донских казаков с дротиками и развевающимися значками.
Прибывшие запорожцы, как оказалось, были все пешие, за исключением начальствующих лиц: самого кошевого атамана, войскового есаула, двух походных полковников и наказных куренных атаманов[1].
Присутствуя полгода назад в Сече на выборах Семена Ревы в кошевые атаманы, Курбский хорошо еще его помнил. Да и как было забыть эту изрубленную до безобразия рожу, на которой не было вершка без рубца и шрама, не говоря уже об особой примете — отсеченном левом ухе. Сам Рева, понятно, гордился этими боевыми знаками, придававшими ему зверски-молодецкий вид. Спустив с одного плеча свою дорогую кунью шубу, чтобы не лишить других удовольствия полюбоваться его роскошной узорчатой черкеской и блестящим вооружением, он снял с головы свою пышную шапку из черных лисиц, а другой рукой опустил свою атаманскую булаву в виде приветствия перед царевичем и гаркнул зычно: