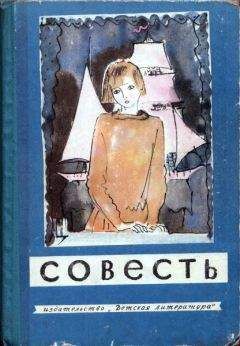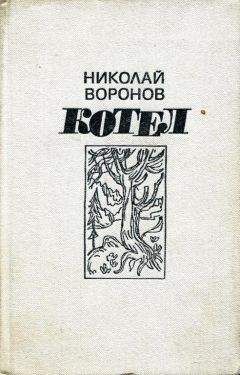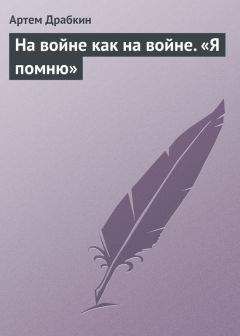Николай Воронов - Голубиная охота
Табун разорвался на две кучи. Чубатый пискун потащился за голубями Мирхайдара. Так он и таскался за ними битый час. И даже после того отклонился за Мирхайдаровой стаей, когда моя стая было вобрала его в себя.
Как я ни злился на хохлатого Цыганенка, вместе с тем я не мог не восхищаться им. Мы выкидывали под него и Петькиных и моих голубей, но безрезультатно. Зато чуть-чуть отдохнув на бараке Мирхайдара, Цыганёнок шел в лет, и Мирхайдару опять и опять приходилось поднимать стаю. Он вымотался, покамест осадил его на пол.
Я видел, как Цыганёнок сел среди голубей Мирхайдара, и, едва не плача, простился с ним. Дело к вечеру. Зоб у него пустым-пустой, и пить хочет, конечно, страшно.
Но не тут-то было. Хоть и пискун, а клюнет осторожненько пшеничку и приготовится взлететь, лишь только Мирхайдар, стоящий шагах в пяти, сделает малейшее движение.
Чужаки, прежде чем напиться, обычно вспрыгивают на борт консервной банки. Тут и ловишь их. А Цыганёнок не дал себя схватить. Отпивал понемногу прямо с пола, не спуская своего янтарного глаза с Мирхайдара.
В конце концов, Мирхайдар решил действовать нахрапом. Он погнал голубей к открытой двери балагана. Чтобы проучить за нарушение порядка. Цыганенка уцепил за макушку мохнолапый Жук. Мирхайдар хотел воспользоваться этим, прыгнул, как рысь, да испугал Жука, и Цыганёнок, освободившись, взлетел на барачную трубу. На этой трубе, уже в послезакатную сутемь, Мирхайдар и поймал его. Я предложил ему в обмен на Цыганенка пару краснохвостых (он зарился на них), но Мирхайдар заявил, что вперед согласится на обрезанье, чем сменяет кому-нибудь такого неслыханного пискуна. Тут же он поклялся, что удержит его. Без связок удержит. И удержал. Чего придумал, жох! Надевал на Цыганенка своего рода чехол с дырками для головы и лапок.
Я никак не мог примириться с этой потерей, даже теперь, когда Мирхайдара нет на свете, а от Цыганенка и косточек не осталось, почти с прежней остротой я переживаю, что проворонил его.
Я сам был виноват: достукался, как говорила мама. Слова, данного ей, я не сдержал. Скверно вел себя в школе: разговаривал во время занятий, играл на деньги в «очко», забавлялся брунжанием лезвия, воткнутого в парту. Кроме того, что я не слушал уроков, я ещё редко брался за выполнение домашнего задания, чаше только притворялся, и бабушка похваливала меня за то, что я вникаю в умственность.
Учителем немецкого языка у нас в классе был беженец из Польши Давид Соломонович Лиргамер. Перед тем как он пробрался к нашим, ему пришлось просидеть целые сутки под развалинами огромного варшавского дома. Хотя ему не было и двадцати лет, волосы на голове у него были полностью какие-то ярко-снежные. Я жалел его за эту седину, но, пожалуй, моё доброе отношение к Лиргамеру зависело не столько от жалости, сколько от того, что он поражал меня своей приятной, мягкой, неизменной вежливостью. У нас были чуткие, строгие, необычайные, обворожительные учителя, но был вежлив лишь он один. Хоть он и сорвался (все-таки поделом мне, поделом), до сих пор я вижу его среди массы людей, которых узнал, почти особняком.
Мои школьные дерзости, проказы, отставание узнались дома благодаря Лиргамеру. Он объяснял новый материал. Чтобы ему не мешать, я читал. Держа книгу на ладонях, я подносил ее снизу к щели в парте и спокойно почитывал. Уж если меня и чертёжника устраивал договор: я не хожу на его уроки, а он выводит мне за четверть «хорошо», то Лиргамер, по моему убеждению, должен был быть доволен, что я сижу тихо, соблюдаю приличия и не без пользы для головы. Но он-то думал иначе. Книга была Петькина, занимательная — про английского короля Ричарда Львиное Сердце. Я зачитался и не заметил, как Лиргамер остановился поблизости от меня. Когда он крикнул: «Жьж-жю-лик, видь из класс-са!» — я никак не предполагал, что этот нетерпеливый приказ относится ко мне. Я подумал, что он относится к Ваське Чернозубцеву, сидевшему передо мной, и даже постучал ему в лопатку.
— Выбирайся, кому говорят?
И тут я засёк, что ясные глаза Лиргамера, увеличенные толстыми линзами очков, смотрят не на Ваську, а именно на меня, точней, не смотрят, нет — яростно взирают. И опять крик, прямо мне в лицо:
— Жь-жюлик, видь из класс-са!
Я оскорбился и сказал, чтобы бы он не обзывался. А еще сказал, что если бы он по-доброму, то я бы вышел без задержки, а теперь не выйду нарочно.
Он сходил за директором. И директор увел меня из класса, уверив в том, что Давид Соломонович ещё не познал всех тонкостей русского языка и, конечно, по чистому недоразумению использовал слово «жулик». Директор благоволил ко мне. Он жил на той же линии — через барак от нас. Время от времени он захаживал к нам. Мать и бабушка рассказывали ему о своей женской доле. А доля у них была горькая, особенно в пору их деревенской бытности. Потчевали его белым вином, селедкой, желтоватой бочковой капустой и черемуховым маслом, представляющим собою смесь сливочного масла с истолченной в ступке сушеной ягодой. Свои воспоминания они перебивали отступлениями, касавшимися меня. Мать просила директора смягчиться, не прогонять меня из школы, а там я, глядишь, войду в «твердый разум и налажусь». Бабушка, поддерживая дочь, обещала каждый вечер творить молитву за его здоровье. Он без того твердо придерживался цели — сделать из этого сорванца человека — и поэтому выслушивал их благосклонно, а потом наставлял, как обходиться со мной. Хотя он говорил для них, они то и дело требовали от меня, понуро сидевшего на сундуке и приткнувшегося виском к шкафу, чтобы я крепко усваивал внушения Ивана Тарасовича.
И в этот раз директор тоже заглянул к нам, но с Лиргамером. У него было смеющееся выражение лица. Он таинственно мне подмигнул, указав глазами на Лиргамера.
Я так понял ею кивок, что давай, мол, малыш, приготовься к диковинной потехе. Но потехи не было, то есть, с его точки зрения, она была, а с моей — была стыдобушка: Лиргамер извинялся передо мной, матерью и бабушкой за непомерную нетактичность. Мы уверяли его, что это нам надо просить у него прощения. И просили прощения. Но он тряс головой и доказывал своё. Он страдал и не знал, как ему очиститься перед школой и прежде всего передо мной.
— Ты пей и закусывай черемуховым маслом, — говорил Лиргамеру директор, — и в тебе образуется стерильная чистота.
Приход Лиргамера и директора отозвался на участи моих голубей.
— Завтра же ликвидируй голубятню, — сказала мать, когда ушли директор и Лиргамер.
Я собрался схитрить — если поволынить и быстро наладить успеваемость и дисциплину, то она смилостивится. И она бы смилостивилась, кабы не коварство бабушки. На птичьем рынке она сговорилась с барышником о том, что оптом и по дешёвке продаст ему голубей. Пока я был в школе, сделка состоялась, и барышник унёс в мешке всю мою стаю.
Утром, постояв у дверей будки, я зачем-то побрел на переправу. Над прудом, отслаиваясь от воды, лежал туман. Местами он вздувался серыми башнями. Неподалеку в нем бодро стучал катерок, и, накрывая этот стук, то и дело широко и тонко распускались клубки звона — ударял паромный колокол.
Едва паром, сплющивая бортом автомобильные покрышки, подвалил к пристани, с него на берег прошёл верблюд, таща рыдван с арбузами, пара быков проволокла воз сена, просвистела свадебная тройка, проехала цыганская кибитка, влекомая низкорослым башкирским коньком, высыпали красили-артельщики из России, с мая по ноябрь живущие в Магнитной, у каждого за плечом узел для разноски трафаретных ковриков, покрывал, накидушек и всякой перекрашенной одежды.
Возчики с веревочными кнутами стали уговаривать киргиза, управлявшего верблюдом, продать арбуз. Киргиз был доволен, что ещё не доехал до базара, а уже навязываются покупатели, но торговать не стал: нужно прицениться. Кибитку задержали бабы в чёрных полушалках, цыганки что-то наборматывали им из тёмной брезентовой глубины, и зубы их сверкали, и закатывались плутоватые глаза, и качались плоские золотые серьги. Кудрявый парень увязался за тройкой, прося взять его в дружки, а ему кричали, что все свадебные должности позаняты своими и пришлые не требуются. Красилей окружили плотники и уговаривали их бросить свое маркое ремесло и подрядиться вместе с ними строить в зерносовхозе элеватор.
Еще вчера, как и у всех этих людей, у меня был интерес, который окрылял душу, а теперь его нет, и я не представляю себе, зачем жить.
За спинами плотников я проскользнул на паром, и когда переплыл на правый берег Урала, то ударился вверх по холму.
В станице гоняли дичь. Стая взрывника, кружившая быстро и слитно, белела на солнце. С новой силой вспыхнула моя маета. И, проклиная себя за измену обещанию, я не знал, куда деться от обиды и тоски.
Поздней осенью такая пустота в степи за Уралом, что кажется — всё вымерло. Сусликов и тех почти не видать. А было многозвучно от жаворонков, и ящерицы струились меж кочковатыми кустиками старника, и совы спали на копешках, и горностаи шастали в ложбине. Обесцветились растения, кроме конского щавеля, кровохлёбки и нивянок. Да еще выделяются среди глинистого однообразия стеклянные волоконца семян кипрея. Татарник и тот поблек, и только и заметишь его по скрюченной верхушке. И запахи как ветром унесло. И словно не пахла, как березовый сок, серебристая по ножке и лепесткам сон-трава, и не тянуло через увалы аромат горицвета, фиалки, ястребинки, цикория, кипрея, пижмы, поповника…