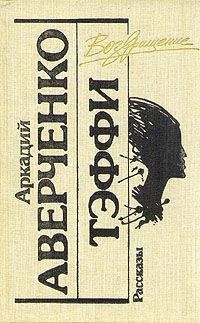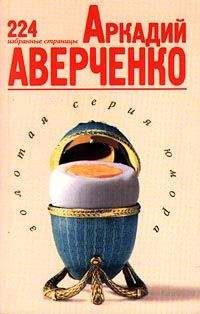Аркадий Аверченко - Юмористические рассказы
Что скажешь? Гимназист, разумеется, говорил правду. Разве таким тоном лгут? Да и упоминание рядом с ее именем фамилии учителя пения по многим соображениям не было классной даме приятно.
Васенька, впрочем, это и сам понимал и прибавил, пропуская Анну Ивановну мимо себя в зал:
– Все это, конечно, останется между нами… У меня, кстати, есть для вас чудесный альбом болгарских народных узоров. Вы ведь интересуетесь рукоделием. Да?
Дверь из гостиной скрипнула, и мягкий бабушкин голос спросил:
– С кем это, Васенька, ты там разговариваешь?
– С Анной Ивановной, бабушка. Она забыла в физическом кабинете Краевича, и я посветил.
Бабушка поздоровалась.
– Добрый вечер, Анна Ивановна. А у меня и чай на столе. Не зайдете ли?
– Добрый вечер… Спасибо… Голова болит ужасно. Простите, пожалуйста, не могу…
Васенька, не жалея спичек, жег их одну за другой до самой швейцарской, в позе пажа подчеркнуто любезно освещая классной даме дорогу. Простились молча. Оба с трудом сохраняли светское выражение лица: она – потому что буквально задыхалась от злости, он – с трудом сдерживая душивший его смех.
В столовой клокотал самовар, пузатый заварной чайничек, белый с розаном, окруженный облаками пара, нетерпеливо позвякивал над конфоркой крышечкой: «Неужели дадут перестояться?» Бабушка щедро наполняла хрустальное голубое блюдечко рябиновым вареньем – любимым Васенькиным.
Гимназист вернулся и, кусая губы, сел в тени, полузаслонясь от бабушки самоваром.
– Так никуда и не пойдешь?
– Никуда, бабушка. Мне и с вами хорошо…
Начальница гимназии ласково покачала головой.
Вот бы хоть иным юлам-гимназисткам, непоседам, вертушкам, пример с него брать.
А он за самоваром раскрыл «Физику» Краевича, – так она сегодня и не попала на книжную полку к своей хозяйке. Стал перелистывать, затаив дыхание, – точно часть души Нины Снесаревой в его руках осталась. И в главе о теплоте нечаянно наткнулся на промокашку, вдоль которой синим карандашом отчетливо были выведены буквы:
«с-х-в-В»
Вспыхнул до слез! Да и как не вспыхнуть, если в его вдохновенной расшифровке буквы эти совершенно ясно означали:
«Смертельно хочу видеть Васю»…
Тихая девочка
Утром Тосю будить не надо: просыпается она вместе с цикадами и петухами, их ведь тоже никто не будит. Проснется и тихо лежит рядом с матерью, выпростав голые ручки из-под легкого одеяла. В оконце качается мохнатая сосновая ветка. Порой присядет на ветку острохвостая сорока; в самую рань, когда люди еще спят, она всегда вокруг дома хлопочет. Птица старается удержаться на пляшущей ветке, смешно кланяется клювом, боком топорщит крыло и перебирает цепкими лапками. Шух. И слетает за край окна к веранде. Тося слушает: со стола что-то со звоном летит на пол. Вчера исчезла новая алюминиевая ложечка, должно быть, сорока добирается до вилки. А в кустах над домом взволнованно бормочет другая, подает первой сигналы.
Сквозь успокоившиеся сосновые иглы радостно разливается желто-румяный солнечный леденец. Если закрыть глаза и быстро снова открыть, кажется, что это и не оконце, а подводный коралловый грот, из которого и выплывать не хочется.
В дверь осторожно скребется соседский бульдожка. Тося его голос знает – умоляет, просит, захлебывается, будто горло борной кислотой полощет. Но впустить его нельзя… Плюхнется на одеяло, разбудит маму, разобьет стакан с водой на столике у изголовья. Он ведь любит от всего сердца, что ж ему со стаканами церемониться.
– Уйди! – шепчет девочка, беззвучно шевеля губами. – Уйди, Мушка… Я еще не проснулась, а мама спит.
Беззвучный шепот через дверь доходит до чуткого собачьего уха. Мушка разочарованно опускает нос, подымает переднюю лапу, будто защищаясь от обиды, и, виляя задом, плетется к помойной яме за сосной. Люди спят, можно и не притворяться благоразумным.
А у Тоси новая забота. Сквозь загнутый ветром уголок кисеи в комнату пробралась зловредная муха, овод, и закружилась над маминым лицом. Девочка боится, но нельзя же позволять мухе безобразничать. Тося схватывает со стула свои мотыльковые штанишки и машет на злую тварь, пока та, задетая пуговкой, не слетает на пол. Сама виновата… Там, на веранде, на клеенке, капли варенья и крошки бисквита, непременно ей надо кусать маму или мула… Вот и ползай теперь раненая по полу, пока не выметут колючим веником в лес.
Купальный халат в углу, похожий на бедуина из детской книжки, порозовел на солнце. Если посмотреть сквозь пальцы, бедуин превращается в цветущую яблоню. Но только на минуту. Тося по-настоящему не умеет «волшебничать». Только во сне. Но проснешься – и ничего нет, и ничего не помнишь, будто с одной звезды на другую упала.
Почему никто не встает? Примус сонно блестит на столике, он тоже ждет, чтобы его разбудили, подлили в чашечки спирта, накачали воздух… Зашипит голубенькой коронкой газ, забулькает в чайнике вода, заворчит мама, будет, как всегда, искать мохнатую тряпку, чтобы схватить горячую ручку. Спят. Тося прислонилась к стенке, подобрала под себя ножки и боком, томная, как котенок в теплых стружках, зарылась опять в подушки. Прохлада заструилась сквозь кисейку, коснулась ресниц. Шмель ударился о мамину цитру, и светлый рокот поплыл-поплыл… Смолк или еще звенит? Ни за что не уследишь. Что ж, если никто не хочет вставать, стоит ли растирать глаза и бодриться, второй утренний сон все равно ведь сильнее.
Ушки холодные, румяные, крепкие, мать только что их вымыла студеной водой из колодца. Ветер забавляется – пушит льняные волоски над бровями сквозным одуванчиком. Глаза, прозрачно-синие кукольные стекляшки, серьезны: кто знает, о чем думает маленькая девочка, когда она утром пьет на веранде какао? Быть может, ни о чем, быть может, над светло-коричневым озером в чашке носится в купальных штанишках лебеденок и мешает Тосе пить…
– О чем ты думаешь, Тося? – спрашивает ее бородатый гость, отрываясь от газеты.
Ни за что на свете Тося на такой вопрос не ответит. Да и гость спросил от нечего делать, перевернул страницу и даже не ждет ответа.
Перед девочкой круглая сдобная булочка, посыпанная сахарными блестками. Совсем как игрушечный детский хлеб, хотя и взрослые очень его любят. Ест Тося по-своему: кусочек себе, кусочек бульдожке под столом, не ошибется до последней крошки. И хотя несправедливые взрослые учат ее каждое утро: «Ешь сама, что ж ты чужую собаку сдобной булкой кормишь?»– девочка, как от овода, отмахнется ложечкой от скучных слов и продолжает свое.
После какао она свободна до самого обеда. Далеко уходить нельзя, но и вокруг дачи, когда ходишь на ниточке-невидимке, немало забавного. Муравьи подбирают со ступенек сахарные крупинки. У них под пнем подземная лавочка: все уносят туда. Дачники осенью разъедутся, и у мурашей запас на всю зиму. Осы облепили под вереском банку из-под сгущенного сладкого молока. Не только дети, кошки, собаки, ящерицы и всякая мелкая тварь, летающая и ползающая, любит сладкое. Крайняя оса с перехватцем на талии, как у балерины, сосет свою капельку без конца. Как у нее живот не разболится? Вздрогнет, оторвется, отдохнет и опять за свое.
Ос и пчел девочка не боится. Если их не трогать, не мешать им пить и есть, ходить среди них серьезно и важно, они не обидят. Бульдожка и тот это понимает: стоит перед ульем, серым домиком, вывалив язык, и с любопытством смотрит вместе с Тосей, как копошится пчелиный народ на своем крылечке у темной щелочки. Но по низким шершавым кустам расстилается грязная паутина, и в ней всегда узким втянутым устьем вход. Там живут огромные светлопузые пауки. Пройдешь близко, наступишь на хворостинку, и из норки выскакивает сердитый противный разбойник: сунься-ка ближе! Тося всегда вежливо, стараясь не шуметь, обходит такие кусты. И шершней она боится: когда взрослые гонят залетевшую злюку из комнаты кто лопатой, кто старыми штанами, девочка зарывается в висящее на стене платье и ждет, пока представление кончится.
Любит она шум. Не тот, что подымают люди, когда спорят на веранде в восемь голосов сразу, или ссорятся, перебрасываясь картами, или поют рыхлыми голосами непонятные песни, а когда шумят на свободе деревья, тростник, море. Сосна гудит на ветру гулко и широко; тряхнет зеленой гривой, залопочет и опять низко-низко зашипит, будто парус по можжевельнику тащат. Тростники внизу, у ручья, посвистывают, словно ласточки на лету, пищат, просят ветер, чтобы не трепал их, не заставлял кланяться до земли. А сквозь зеленые лесные голоса вдруг: бух-бу-бух. Это море шлепнулось о песок, обрушило толстую волну… И отходит назад, волочит шлейф по гравию. Тося слушает. И у старого каштана свой шум: шелестит, будто сквозь сон бормочет. А нижние лапы молча и плавно покачиваются. До них ветру не пробиться.
Гость злится: ветер унес деловое письмо в лес. Мама злится: ветер «действует ей на нервы»… Нервы – это когда дрожат губы и достается всем… И Тосе, и стакану, который стоит не на месте, и бабочке, влетевшей в комнату. Злится и бабушка: ни один пасьянс не удается, ветер путает все карты… И только Тося спокойна. Прищурив глаза и заложив худые ручки за спину, стоит она на камне и смотрит в чащу. Где ветер? Какой он? Пепельные волосы, толстые щеки… Ходит по вершинам деревьев, трещит и дует во все стороны. Чтобы внизу не болтали, чтоб человеческого белья между стволами не развешивали, чтоб в лодках среди залива не кричали, чтоб рыб крючками не мучили…