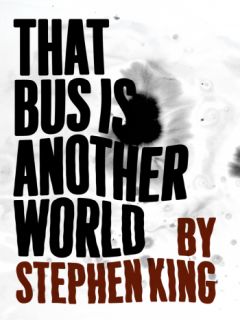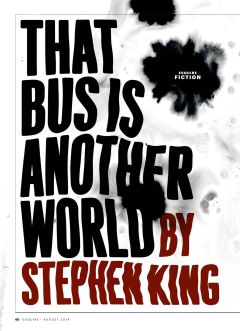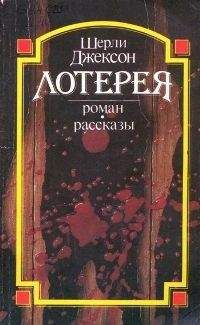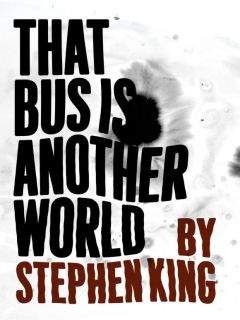Георгий Караев - 60-я параллель
Небольшая полянка — метров четыреста в длину; максимум, от пятидесяти до ста метров в ширину — имела сверху вид сильно вытянутой узкой гитары, восьмерки. Она и сама-то была расположена не очень удобно: наискось по направлению ветра. Хуже того, приземлившийся самолет лежал на брюхе, развернувшись, подломив консоль правого крыла, не в самом конце поляны, а примерно на трети ее длины. От четырехсот метров разбега отнималось еще пятьдесят, если не сто.
Но трава на лужайке, по счастью, не имела того коварно прелестного вида яркозеленого и гладкого сеяного газона, который свойствен недавно заросшим зыбунам и топким трясинам. Она была желтоватой, подсохшей, обещала твердый грунт. Ближайшая дорога лежала много севернее, за маленьким болотным озерком. От места посадки Мамулашвили ее отделяла широкая полоса лесистой топи. Это было определенно удачно, — не заметят!
Не задерживаясь ни секунды, летчик Слепень скользнул к земле. Дважды, потом трижды он прошел над поляной и заложил над местом аварии крутой вертикальный вираж. Да, могло быть хуже. Самолет сел, очевидно, с «хорошим плюхом», — задрав нос, упал плашмя. Ежели бы не какая-то кочка или куст, он подломал бы только винт.
Теперь он лежал почти по диагонали поляны, уткнувшись носом в траву и в брусничник. И на некотором расстоянии от него, тоже лицом в траву, лежал человек... Живой? Мертвый? Не было времени гадать об этом.
Зайдя с юго-востока, Слепень, сильно прижимая свой «У-2» к земле, пронесся над самой раненой машиной. Что? Машет рукой? Нет, показалось!
Колеса коснулись земли. Твердо? Твердо; даже козлит, чорт возьми! Раз, раз, раз! Так... Сто пятьдесят метров, двести... Очень хорошо, что такая густая трава. Хорошо садиться: тормозит отлично! Зато как взлетать?..
Развернув «У-2», Евгений Максимович подрулил к разбитому самолету, развернувшись возле него еще раз. Мамулашвили не подавал признаков жизни. А если, а если он убит?
Летчик Слепень весь облился холодным потом. Неужели... Неужели ради этого он... Нет, не может быть! Нет, нет, нет! Скорей!
Ной Мамулашвили, вероятно, отстегнул ремни в последний миг, и его выбросило из кабины, сорвав плексигласовый колпак. Он упал вон там, потом переполз сюда. Теперь он лежал без движения... Под головой у него был подложен парашют. Правая рука кое-как замотана бинтами... Кровь проступала сквозь белую марлю. «Мамулашвили! Ной!..» Молчание.
У Евгения Слепня сжало горло и перехватило дыхание, пока, неуклюжий в своем комбинезоне, он торопливо шел к лежащему. Небольшой, крепкий телом человек, закрыв глаза, закусив нижнюю губу белыми острыми зубами, лежал тут, в двух или трех десятках километров от своих. Он был совсем один в глухом лесу, окруженный топью, окруженный врагами. Он лежал, примяв своим телом маленькие белые гвоздички, растущие на песчаных взлобках, среди болот. Он потерял много крови. Он, очевидно, был без сознания, в бреду, метался, звал, наверное, на помощь... А кого? Кто ему мог помочь?
— Ной, очнись! Ной!
Не отвечает.
Потом, позднее, вспоминая всё, как было, Слепень никогда не мог восстановить последовательности своих действий... Комбинезон мешал ему. Он снял свой комбинезон. Как быть с Мамулашвили? Снимать с него верхнюю одежду? Немыслимо. Он распорол ее финским ножом, сорвал и, подняв это бесконечно тяжелое тело, вжал его кое-как в круглую заднюю кабину «У-2». Перевязал он его? Видимо, да.
Вероятно, какая-то доля инстинкта не спит и у обморочных; грузин сам слегка повернулся в кабине, сел... «Спасибо, кацо! — не раскрывая глаз, прошептал он. — Во-воды!»
Слепень напоил товарища. Он покрыл его сверху разрезанным комбинезоном, тщательно по возможности привязав комбинезон его же поясом. С той же тщательностью он затянул его ремнями сиденья. «Чорт! Может машинально открыть пряжку, летчик же... бредит!..»
Оторвав узенькую ленточку подкладки, он закрутил ею автоматическую пряжку ремня. Теперь не раскроет!
Наконец всё было готово. Он не знал, сколько времени прошло, но ясно чувствовал, что медлить нельзя ни минуты. В то же время он понимал: в такой усталости ему не взлететь. Двадцать лет назад — может быть; теперь — исключено. Он должен отдохнуть минут десять.
Отойдя, не надевая вновь комбинезона, он лег на траву, вот так. Совершенно спокойно. Вот! Руки за голову. Дыши ровно, считай. До четырехсот. Не торопись... И, кстати, перед взлетом надо будет обязательно поджечь машину Мамулашвили. Почти цела!.. Оставлять им нельзя. Увидят дым? Ничего. Лучше рискнуть.
Большое небо. Мягкие белые, теплого оттенка облака. Они поблескивают, как искусственный шелк. До чего все это спокойно! «Ну вот, десять минут! Девять, положим, но всё равно! Довольно».
Летчик Слепень встал. Комбинезон надет. Не торопиться!
Искусственно, нарочито замедляя шаги, он подошел к лежащему самолету. Надо открыть баки и выпустить бензин на землю. Поджигать на земле опасно, но с воздуха он выстрелит вниз ракетой: дело верное!
Он нагнулся в кабину и открыл краник бака. Резко запахло бензином. В тот же миг Евгений Слепень вздрогнул. В кабине самолета, на ее полу, на крошечном пространстве этого пола лежал небольшой белый конвертик. «Майору Е. М. Слепень» — было написано на нем хорошо знакомым ему почерком Ноя Мамулашвили... Что такое!
Майор едва успел схватить конвертик, прежде чем бензин пропитал его. Руки его уже сделали движение — раскрыть... Но время шло; времени уже не хватало. Надо было беречь не то что минуты, секунду каждую...
Он судорожно сунул записку в карман, заглянул, как, брызжа, испаряясь, растекается горючее. И вот он уже стоит ногой на подножке своего «У-2».
Внимательно, точно проверяя самого себя, он смотрит в лицо Мамулашвили, друга, ученика.
Потом острое ощущение света, свободы, счастья до боли распирает ему грудь. Важно только одно: он тут. Он! И человек, советский летчик, будет спасен другим, тоже советским человеком.
Мотор взял... «Ничего, взлечу! Не впервой!»
Первый разворот над болотом. Ракетница как здорово отдает... Ух!.. Он не ожидал такого эффекта. Вот так костерок! А дым-то, дым-то!..
Нет, сто двадцать километров в час — это, конечно, не плохо, но сейчас он не возражал бы и против шестисот.
Вершины сосен и елей. Деревня; дрова сложены... Картофельное поле, река...
Знакомая, привычная, милая до боли мелодия вдруг возникает где-то внутри, в сознании летчика Слепня. Она сливается сразу со всем: с сыроватым вечером, мелькающим там, внизу; с воспоминанием о солнечном луче, ворвавшемся в отворенные на Неву окна его комнаты; с нежным, теплым, любимым лицом и, главное, с ощущением необыкновенной легкости, объемлющим душу: «Ши-ро-ка страна моя род-на-я!..» Спас!
Поздно вечером майор Слепень широко распахнул окно у себя в командирском городке Лукоморья, перед тем как завесить его черным и зажечь свет. В первый раз за всё это время он согласился переночевать тут, «дома», а не на командном пункте. Впрочем, он не соглашался, — просто Василий Сергеевич Золотилов ласково взял его за талию и, как маленького, увел в темноту. А рядом — справа, слева, спереди и сзади, — не отходя от него ни на шаг, шли все они, его «ястребки» — Простых, Крылов, Родионов, Кулябко, Коля Рудаков. Они не говорили ничего. Они только смотрели ему в глаза, и он ясно знал, что любое его приказание теперь будет выполнено без размышлений, в тот же миг, не за страх, а за совесть. Теперь они его поняли до конца!
Ноя Мамулашвили, вместе с каким-то еще раненым командиром с прорвавшегося из немецкого тыла бронепоезда увезла в Ораниенбаум дрезина. В сознание Ной так и не приходил, но врачи сказали, — ничего угрожающего в его положении нет. Нет; слышите?
Окно открылось. Звездная и уже темная ночь вошла в него тихим шелестом сосен, отдаленным рапортом волн на морском берегу, чуть слышными голосами пониже, на дороге... Кто-то негромко разговаривал там, слышался приглушенный молодой смех, треньканье мандолины или гитары... Жить! Эх, до чего хорошо жить!
Несколько минут майор безмолвно и бездумно лежал грудью на подоконнике, широко и счастливо улыбаясь этому великолепному миру, который, умея жить даже в темноте, умеет и просыпаться с лучами солнца. Потом, надышавшись, он закрыл окошко, затемнился, стал раздеваться и вдруг нащупал в кармане бумажку — тот конверт.
Идти к столу у него не хватило сил. Он сел на краешек кровати, надорвал письмо и стал читать.
«Дорогой друг! — так писал ему летчик Мамулашвили. — Товарищ майор! Оставлю это письмо комиссару. Пишу его для того, чтобы ты его прочитал тогда, когда я не буду жив; может быть, тогда ты мне еще один раз поверишь. Я, конечно, виноват перед тобой, но я и ни в чем не виноват; понимай, как умеешь. Я никогда никому не передавал твоих чертежей. Я никогда никому не позволял снимать с них копии. Я не виноват!
Но я скрыл от тебя одно плохое дело. Раньше я никак не думал, что оно имеет значение. Раньше я думал, что не имею права говорить об этом никому, потому что эта вещь набрасывает совсем нехорошую тень на человека и особенно на женщину. А теперь я думаю, я должен тебе сказать.