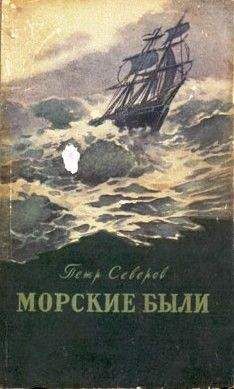Елена Сапарина - Последняя тайна жизни (Этюды о творчестве)
Все дядино озорство, словно по наследству, племяннику Дмитрию досталось. Большой искусник был по части розыгрыша, не всегда и доброй шутки. И первым под его разящие стрелы брат Иван попадал.
Младший — Петр — был высок, тонок, белокур. Учился легко, и преподаватели из всех братьев именно его выделяли. Еще студентом он к научной работе приобщился. А когда окончил университет, стал птицами заниматься, и дела у него шли весьма успешно. Старший — Иван — как ученый позже в силу вошел, но и став знаменитым, всегда повторял: «Мой Петя был много способнее меня…»
Может, потому так мнилось Ивану Павлову, что рано и трагически ушел из жизни брат Петр. Как-то зимой, будучи на вакациях в родной Рязани, братья отправились на зимнюю охоту. Иван, не любивший этой забавы, дома остался, а младший — Сергей, мальчонка еще, — упросил, чтобы и его взяли. Однако, бредя по глубокому снегу, видно, устал, не удержался, свалился в яму. Петр протянул ему ружье — держись! И стал тащить. Тут и случилось непоправимое: в суматохе зацепил курок, раздался выстрел — весь заряд дроби в Петра попал, да еще с такого близкого расстояния, почти в упор…
Дмитрию его веселый характер учиться не очень мешал. А вот Ивану, хоть он и не был сухарем, такое непрестанное веселье («…помню, газеты били тревогу: поветрием распространялся канкан… Отчаяннейший был танец! Иная дама норовит, бывало, цилиндр сбросить со своего партнера носком ботинка… Многие мои приятели увлекались им страшно…») стало надоедать.
«Мне кажется, что основной целью молодости должно было приучить себя думать, — скажет он потом. — Думать — это упорно исследовать предмет, иметь его в виду и ныне, и завтра, писать, говорить, спорить о нем, подходить к нему с одной и другой стороны, собрать все доводы в пользу того или другого мнения о нем, устранить все возражения, признать пробелы там, где они есть, короче — испытать и радость и горе серьезного умственного напряжения, умственного труда.
Только так действуя теперь, в молодости, ты никогда впоследствии не согласишься расстаться с этими ощущениями, променять их на что-нибудь, только тогда умственная потребность окажется действительно неистребимой потребностью».
Это были не расплывчатые мечтания, а вполне определенная жизненная позиция. И в ней уже ясно заявлено и о необходимости «непрестанного думания» о предмете своих занятий, и о том, что умственная работа — труд, и труд тяжкий, и о радости высшего духовного наслаждения, которую он приносит тем, кто отважится посвятить себя служению науке.
И по всему было видно, что старший из братьев обрек себя именно на такое беззаветное служение и непрерывный труд. Из всех перипетий своей петербургской жизни старался он извлечь пользу для становления самого себя как будущего служителя науки.
Когда пришлось прирабатывать, давая уроки, он тотчас постарался развить в себе педагогические способности. Ведь если он станет в дальнейшем читать лекции — ему эти навыки весьма пригодятся. И так преуспел в этом, что порой всерьез подумывал, а не стоило ли ему вообще пойти в педагоги и преподавать в гимназии или хотя бы в народной школе.
Собиралась у Павловых очередная разнородная и большая компания, созванная жизнелюбивым Дмитрием. Иван и тут не терялся: не только слушает разговоры, но и старается приучить себя о своем предмете с любым собеседником говорить просто, доходчиво и с должным увлечением. Даже Митю заразил, что-то вроде соревнования устроили. С тех пор оба владели ораторским искусством и могли без подготовки выступать перед самой разной аудиторией.
Зайдет ли опор о чем-либо — тут оба брата самые умелые, этому они еще с семинарских времен обучены. А за студенческие годы еще увереннее стали их ответы противнику, острее выпады. И как сгодилось это умение вести дискуссии, когда пришлось потом свои взгляды в научных спорах отстаивать, истинную науку от всякого рода домыслов и откровенных нападок защищать.
«Какая бесконечная вереница споров! — вспоминал позже академик Павлов эти студенческие годы. — Ничтожный повод — и начинается спор, и этот спор поднимается до высшего градуса… Я не знаю предмета, которого бы они не касались… И это не были разбросанные сведения… Мы не могли понять, как это можно жить без общего взгляда на мир и жизнь».
Тогда-то Иван Павлов и составил своего рода программу жизни, в которой было четко определено, чем он должен заниматься и как поступать в том или ином случае. И этим собственноручно выработанным принципам он в дальнейшем неукоснительно следовал.
Однако столь нужные жизненные правила выкристаллизовывались не сразу. Он их буквально выстрадал. Было ему без малого уже тридцать лет, а он все метался в поисках тех принципов, по которым надлежит жизнь строить: на какие свойства своей натуры следует опереться, что надо развить в себе, чему уделить первостепенное внимание. И тут многое было еще неясно, неопределенно. И грустилось ему, и хандра, бывало наваливалась, и даже «ныть» случалось — ну, разумеется перед самыми близкими.
А самым близким другом для него стала в это время слушательница женских курсов Серафима Васильевна Карчевская, которая тоже приехала в Петербург учиться и мечтала стать учительницей.
Когда она, окончив учение, уехала в глухую провинцию, чтобы работать в сельской школе, Иван Павлов стал изливаться ей в письмах.
Письма любимой… О чем пишут обычно другу сердца? О своих чувствах, о жестокой разлуке, о возможных планах будущей жизни. Иван Павлов писал невесте о недостатках своего характера и трудностях, которые ее ждут в случае, если она станет его женой; о своих сумбурных настроениях и о том, что следует развивать, непременно нужно — свой ум; о том, чему он думает посвятить жизнь и что следует ей в себе исправить…
В этих письмах так ясно вырисовывается самое становление неординарной личности Павлова. К счастью, они сохранились. Прочтите их: выдержки из них перед вами.
«ПОПАЛСЯ!»
Так называлась газета в письмах, которая начала выходить во время первой разлуки студента Петербургского университета и слушательницы женских курсов. Издатель ее — Иван Павлов — в первом номере сообщал своей читательнице, что газета «Попался!» будет отражением жизни, с ее смехом, радостью, горем, серьезным раздумьем. Состояло это «еженедельное издание случайного происхождения, неопределенного направления, с трудно предсказуемой будущностью» из доброго десятка страниц каждое. Здесь была и обязательная редакционная статья, и фельетон, и, как водится, объявления.
Позже по желанию читательницы название газеты было изменено. И выходила она в продолжение всех летних вакаций, которые издатель и его корреспондентка, увы, проводили поврозь.
Когда же читательница этой необычной газеты отбыла к месту работы и разлука грозила стать более продолжительной, издателю стало уже не до смеха. И он принялся писать «просто письма», правда, иногда по нескольку на день. Брат Митя уверял потом корреспондентку, будто весь этот долгий год Иван только и делал, что писал ей письма или читал ответные…
«Суббота, 13 сентября 1880 года, 8 часов утра
…Я сейчас как бы расстроенная гитара, которой настраивают струну за струной. Струна гимнастики настроена. К ней теперь пристраивается струна лабораторных занятий. Начинаю ходить исправно в лабораторию, и гимнастика, несмотря на большой физический труд в продолжение дня, дает мне силу довольно легко его переносить. Крепчаю с гимнастики заметно не только для себя, но и на глазах других. Остались еще неустроенными, неподтянутыми струны научных домашних занятий и постороннего чтения. Но не сразу же! Чувствую только, что к этому идет. Решил (и ты увидишь, что выполню) никуда не ходить — ни в гости, ни в театры, — пока действительно не устану так, чтобы испытать заслуженный отдых. И заиграет же наша гитара на радость себе и тебе, моя милая, и всем другим, как она игрывала-таки в прошлом.
Твой…
Что бы там ни было, не пропадем!»
«Четверг, 25 сентября 1880 года, 8 часов утра
Э-э, милая, съехала наконец-таки на нашу систему. Сколько раз мы толковали с тобой о роде занятий!.. Ты всегда стояла за работу порывом, по вдохновению. А теперь запела другое: „Вот если бы обязательное дело было…“
…То, что ты говорила раньше, — чувствовал, знал и я в более молодые годы и с этим все время боролся и борюсь. Да, это почти необходимость тех лет, когда все еще ново, возбуждает, привлекает то то, то другое, трогает — и глубоко до нарушения всякой программы, всякого порядка новая мысль, новое чувство, новое лицо, особенные обстоятельства и т. д. Но также верно, что все это не должно оставаться на всю жизнь, это бросание должно сменить систематическое преследование определенной программы, определенного плана. Можно ли с этим спорить? Раз так, то понятно, что не всякую минуту будет двигать тебя восторг, вдохновение, сплошь и рядом за твоим делом удержит тебя раз навсегда принятая на себя обязанность. Так мне представляется. Как тебе?