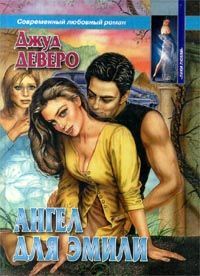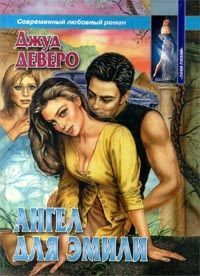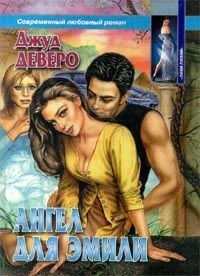Галина Демыкина - Птица
Возле больницы много деревьев и кустов. Они не больничные, они деревья вообще, потому что были здесь до всяких домов. Это их потеснили, а не они выросли рядом.
После врачебного обхода Люська в длинном махровом халате вышла под эти деревья и кусты. Здесь происходило то, на чем редко задерживаются людские глаза: коричневые лапы почек размыкались и выпускали на свободу беловатый лист. Он потому был беловатый, что принадлежал возлеоградной акации, которая к осени обрастает стручками-свистульками. Над головой с шорохом толкались в рост беспомощно-светлые листья тополя, падали его пустые почки, бархатились под ногами бордовые червячки его цветов… И что-то звенело, звенело в воздухе, и Люсе казалось, что там, возле древесных корней и стрельчатой травы, маленькие зеленые трубачи, бесшумные и таинственные, точно гномы, возносили свои легкие трубы…
Весна! Люся только в очень раннем детстве увидела весну и поразилась ей: этому нежному цвету и этой радости листьев и травинок: «Мы! мы! мы!»
И теперь она слышит то же, только еще громче и победней.
Она трогает рукой кору дерева и удивляется ее шероховатой красоте. Подставляет лицо под теплое майское солнышко и радуется этому теплу. Если случается дождик, она ловит дождинки ртом.
— Как дурочка прямо, — смеясь, жалуется она Алексею. — Ну будто только что родилась: все мне внове! Почему?
— Люсь, а ведь так оно и есть: родилась заново, — отвечает он.
И Люся понимает — он не хочет говорить про ту ночь, когда была только белая стена и больше ничего не было: ни страха, ни боли, ни жалости к себе. Бережет ее! А чего беречь? Было так. А теперь — иначе. Теперь дарованы заново эти деревья — кора, листья; облака над ними; люди — соседки по палате, которые тотчас принялись опекать ее (неопытная в болезни!), жалеть (такая молодая!), восхищаться. Одна из них, Тамара, называла ее сперва «существо», потом «Тяпа», а теперь «девочка-эльф».
А что такое эльфы? Они почти как люди, только поменьше и очень легкие. Они умеют летать. И живут в лесу.
Про эльфов от безделья придумала Тамара, а Люська ухватилась за сказку. Это стало их игрой.
— А что делают эльфы? — спрашивала шепотом Тамара.
— Пекут блины!
— Ну да? А задание по алгебре?
— Еще вчера сделали!
— Не желают ли они полетать?
— Не могут: выстирали крылышки и развесили на ветках.
— Вот тяпы! В такое утро!
Они обе тихонько смеются. Странно, но над Люськой, как в детстве (все теперь как в детстве!), сказка получила власть. Она сгустила краски: зелень стала ярко-зеленой, облака ярко-лиловыми, земля тучной, влажной, чреватой новой жизнью; а Люськина походка сделалась упругой, легко переходящей в бег, похожей на полет.
Может, был (был! был!) и еще один дар, но о нем боязно думать. Он сродни сказке, но пугал крупностью и жил в душе потайной и радостной жизнью.
Вот и сейчас, среди деревьев, одна, Люська тихонько смеется, закрывает глаза, ловит кожей лица солнечное тепло, движение листвяных теней. Хорошо!
Потом она быстро озирается: не глядит ли кто. Стоп!
За узорной решеткой забора, на узком тротуаре старой улочки, прямо напротив Люси стоит девочка. У девочки огромные серые глаза — прямо в пол-лица; крохотный нос, еще меньше роток, будто кто проткнул дырочку, и припухшая верхняя губа. Это все не так уж красиво, но очень знакомо. Знакомая девочка. Хотя никогда не виделись. И эти длинные, почти белые волосы, и бант над головой.
— Как тебя зовут, девочка?
— Меня? Птица.
Люся перестает смеяться. Ей хочется сесть, перевести дух. Она хватается за ограду, держится крепко.
— А где твоя мама?
— Вона там, в магазине. Я больше от нее не убегаю.
— Ну и молодец.
Девочка открыто и ласково рассматривает Люсю.
— А ты в больнице, да? Ты не слушалась?
Какие глупости говорят ребенку, и он, если, не дай бог, заболеет, будет бояться этого дома. Глупая мать, вот что. Глупая женщина — мать Люсиной сестренки. Так легко сердиться на нее. Но она не виновата. Эта женщина ни в чем не виновата? А кто же виноват? Ведь никакой девочки-Птицы еще не было, вот этой Птицы не было. А Люся была. Хотя ее уже не звали Птицей. Но ей тоже хотелось, чтоб был отец. Ее отец.
Девочка держится за чугунные прутья, раскачивается, глядит на Люсю:
— Давай в чего-нибудь поиграем, а?
— У меня есть мячик, — отвечает Люся. — Хочешь?
— Хочу.
У Люси под подушкой и вправду лежит двухцветный мяч — это подружки принесли, чтоб она не скучала; читать ей пока нельзя, глаза плохо видят, строчки расплываются. Так вот — мячик.
Люся отбегает от решетки, в которую вцепилась девочка, а сама оборачивается. Ей страшно, что та уйдет.
— Ты не уходи.
— Нет. — И оглядывается. — А вона мама.
На верхней ступеньке магазина, того, что напротив, стоит полная женщина с одутловатым лицом. Мягкие руки ее укладывают в продуктовую сумку белый батон. Знакомые руки. Те самые, которыми толкали, запихивали в сумку самое дорогое, отнимали, без спросу и совести отнимали у Люси. «Почему вы берете?»
Люся стоит оцепенев, как во сне.
Женщина уже нашарила глазами девочку, уже перебежала дорогу. Вот она, рядом.
— Ты что тут делаешь? Я разве велела тебе… — И замолчала.
Люсе надо бы не глядеть так на этот мягкий рот и разреженные короткие зубы; на это пухлое безвольное лицо, не помеченное возрастом; на бледно-голубые маленькие глаза под безбровыми дугами. Неужели она лучше мамы? Неряшливо одетая, непричесанная.
А девочка?.. Девочка такая, какой была когда-то Люся. Но ведь теперь Люся не такая, и, значит, девочка лучше.
И снова: но ведь тогда еще не было девочки!
Женщина в замешательстве наклоняется к дочке:
— Пойдем, пойдем, Птица.
И вдруг лицо ее покрывается пятнами, глаза, которые она почти так же открыто, как девочка, поднимает на Люсю, краснеют и набухают.
— Люся, — говорит она шепотом. — Люся, я вас сразу узнала. По карточке. У Мити есть карточка. Вы заболели, да? Я скажу. Он придет навестит.
Она подхватывает девочку и тащит ее, хлопая разношенными туфлями.
Девочка из-за ее плеча тянется к Люсе, выворачивается: она хочет сыграть в мяч.
Люська стоит оторопело и глядит, глядит вслед женщине — той, из сна, обретшей плоть. Она видит девятиэтажный дом, в подъезд которого та входит, и ей трудно поверить, что каждый день в этот дом возвращается ее отец. Ей отвратительна женщина, и ей стыдно своей злости: очень уж безобидно и жалко смотрела она, будто не очень счастлива, не очень уверена не только в своем счастье, но и в праве на него.
Отравленная этой встречей Люся медленно идет по дорожке. И все же боль ее имеет предел, она с удивлением ощущает это.
«Скажу Алексею. Все, все расскажу», — и сама мысль об этом будто высвечивает событие.
— Ты чего, Люсек? Чего пригорюнилась?
Это — Тамара. У нее непропорционально тяжелое лицо с удлинившимся подбородком и носом. Слоновая болезнь. Акромегалия.
У Тамары молодой — моложе ее — муж, и она боится потерять его.
— Знаешь, как говорится: брат любит сестру богатую, а муж — жену здоровую.
Изуродованная болезнью, она тихонько плачет по ночам. А утром встает ясная.
— Ну, — говорит она сонной Люське, — как ты думаешь, что сейчас делают эльфы?
— По-моему, еще спят, — бормочет Люська и сразу поднимается.
И они с Тамарой, наскоро помывшись, шагают по безлюдным аллеям, вдоль больничных корпусов.
— Люсек, ты — очаровательное создание. Ты должна — понятно тебе? — должна быть чертовски счастлива.
— Да, очаровательное! У меня ноги некрасивые.
— Не болтай. Тебя это ничуть не тревожит. Ты просто прикидываешься. А потом, у эльфов не бывает спортивных ног, а? — Тамара смеется.
И Люська тоже. Просто оттого, что ей тепло и уверенно с этой женщиной, которая раз, всего лишь раз и только ей одной поведала о своем горе и больше о себе — никогда. Разве если что-нибудь смешное.
Больничный быт. Беседы о болезнях, странное тщеславие: чья хворь опасней. Люся привыкла. Но внутри сидит живучий бесенок, он уже прыгает, весело подбрасывая лапки, — ничего, мол, обошлось! Жив! Жив! Люся немного пригибает голову, чтобы не выглядеть вызывающе веселой.
Часа в четыре в парк прибегает Миша Сироткин. Он рассказывает о дворовых новостях, о том, кто и куда готовится, и что ей по справке о болезни выдадут аттестат без экзаменов — не зря она хорошо училась! Они болтают минут двадцать, потом Люся говорит:
— Ну, Миш, мне пора, а то заругают.
Она всегда говорит так, потому что знает: когда они переберут все новости и немного посмеются Люськиным рассказам о нянечках и соседях из мужской палаты (ох, мужчины болеют всласть, с преувеличением!), тогда вдруг станет не о чем говорить. Она не дожидается этого, ей не хочется никакой жесткости, никакого напряжения. Она благодарна Мише Сироткину, что он приходит, что не отрекся от нее, несмотря на стоны матери: «Инвалида берешь! Сам говорил — болезнь неизлечимая». О, Люська знает эту женщину! Да и соседки пришли навестить, рассказали про шумные — на весь двор — скандалы и обсуждения.