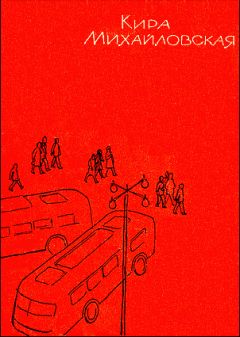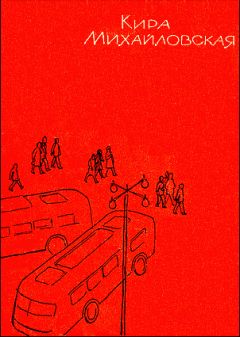Кира Михайловская - Мальчик на главную роль
Когда в школе произнесли речи, вручили цветы, отзвенел первый звонок и все, чистые и сияющие, уселись за свои парты, Алёшу Янкина за руку привела в класс директор школы. Его новенькая форма была перепачкана, штаны порваны, щека расцарапана, волосы топорщились. Его появление в классе вызвало весёлое оживление. Никто из детей не интересовался, отчего у мальчика такой нелепый вид, всем было весело смотреть на него. В ответ же на настойчивые вопросы директора и учительницы мальчик угрюмо молчал. Взрослые решили оставить его в покое. И правильно сделали. Наверное, у Алёши уже тогда появилось столь частое потом желание дать дёру.
После окончания уроков всех ребят кто-нибудь встречал. Алёша, выйдя из школы, увидел на противоположной стороне улицы отца. Тот стоял, как побитая собака. Алёша перешёл улицу и подошёл к отцу. У Павла Андреевича тряслись губы и руки. Но Алёша был счастлив, что за ним тоже зашли, и забыл обиду. Он взял отца за руку, и они молча пошли домой.
Алёша учился с какой-то яростью, легко всё схватывал, а по жизненному опыту в свой семь лет был намного старше сверстников. Всякую попытку посмеяться над ним он пресекал дракой. А так как был он парень довольно крепкий, то ребята его боялись. В конце концов смеяться над ним перестали, но сдружиться с кем-нибудь он тоже не смог.
Воспитательницей у Алёши была недавняя выпускница педагогического института. По склонностям она была сугубо книжным человеком и Алёшу не любила. Да это и не удивительно. Никому Алёша не хотел нравиться и ни с кем контактов не искал. Он существовал в классе сам по себе, отдельно от всех, и никого к себе близко не подпускал.
Между тем падение Павла Андреевича шло медленно, но с какой-то неумолимой неотвратимостью. В конце концов его перевели в вахтёры — руки его больше не слушались. А потом его и совсем уволили. С тех пор он уже ни на одной работе долго не задерживался. К тому времени, когда Алёша перешёл в шестой класс, Павел Андреевич окончательно опустился и жил лишь случайными заработками. Деньги он быстро пропивал, и если Алёша не припрячет сколько-нибудь, то случалось им и голодать.
О том, что происходит с Алёшей, в школе не очень догадывались. Обманывало то, что учился он хорошо, а внешний вид после первого злосчастного прихода в школу был у него всегда приличный. Больше всего Алёша боялся, как бы кто не узнал, что отец у него горький пьяница. Но беда всё же случилась. Однажды Павел Андреевич, пьяный, очень воинственно настроенный, ворвался в класс во время урока и распластался на полу. Алёша похолодел от ужаса, ему казалось, что отец сейчас умрёт. Он вскочил со своего места, подбежал к отцу, помог ему подняться и увёл его.
С этого дня Алёшу словно подменили. Он окончательно замкнулся в себе и перестал учиться. Его оставили на второй год. А придя на следующий год опять в тот же класс, он оказался старше всех на год. Интерес к учёбе не вернулся. Грубость стала для него щитом, которым он прикрывался во всех случаях жизни. Грубил он не только ребятам, но и учителям. А ребят при случае просто лупил. Так Алёша Янкин оказался в классе не только последним по алфавиту, но и, что называется, самым последним учеником…
Во второй половине года их класс приняла Наталья Васильевна. Она была первой, как понял Владимир Александрович, кто разобрался, что же происходит в этой семье.
— Не раз и не два наша дирекция пыталась вмешаться, но я… Не знаю, как вам объяснить…
Наталья Васильевна посмотрела так, как будто искала у меня поддержки. До чего же она была молодой! Или мне только казалось так? В ней была порывистость, не заглушённая жизнью. И хотя я не понимал, как люди, видевшие всю историю с Алёшей, слыхавшие о ней, могли жить спокойно рядом, есть свои кисели и спать в мягких постелях, я почему-то верил, глядя на эту взволнованную женщину, на её правдивое лицо, что именно так и надо было, что только так можно было уберечь Алёшу от ещё худших, ещё более мучительных для него переживаний.
— Трудно это объяснить. Это почувствовать надо, — сказала Наталья Васильевна. — Вот представьте, вы живёте с отцом. Он — нехороший отец, плохо вас кормит и мало заботится о вас, но он любит вас, а главное, вы любите его. Это самое главное: вы любите его. Вы стыдитесь всех его дурных поступков. Вы стараетесь, чтобы об этих поступках по возможности никто не узнал. Вы не чурбан. Вы человек щепетильный. Соседка, отчитывающая вашего отца на лестнице, оскорбляет вас больше, чем сам этот пьяный отец. И вот представьте: чужие люди приходят в вашу жизнь, начинают освещать все её тёмные закоулки, которые вы хотели бы оставить неосвещёнными, начинают громко осуждать всё, что там обнаруживают, судить и рядить. И что, в конце концов, что они могут сделать? Выселят вашего отца на принудительное лечение, учредят над вами опеку посторонних и разорят вашу пусть неустроенную, пусть тяжёлую, но вашу собственную жизнь. Быть может, эта тяжёлая жизнь учила вас каким-то важным вещам, быть может, ваша любовь к отцу облагораживала ваш характер — кто знает! Может быть, увидев жестокость, проявленную по отношению к отцу, вы хуже чем ожесточились внешне, — вы стали жестоки сердцем. Это никого не интересует. Объективно вас облагодетельствовали. Для вас сделали всё, что возможно. Понимаете ли вы меня? Я не хотела, чтобы по отношению к Алёше поступили вот таким образом. Я пыталась найти к нему дорогу, но это оказалось очень трудно. Почти невозможно. Но мне удалось сохранить ему его собственную жизнь. Это мало, и хвастаться мне нечем, но и это стоило мне усилий. Не раз дело Алёши висело на волоске. И ему угрожал то суд, то выселение отца — и детский дом, опекунство. Наш директор и сейчас настроена на то, чтобы сдать мальчика в школу для трудных детей. Вот почему я рада, что мальчиком заинтересовались. Рамки жизни его раздвинутся, в его жизни появятся новые люди, интересная работа. Я в Алёшу верю.
Пока мы разговаривали, последний урок кончился и школа опустела. Затихли шаги в пустых коридорах, перестали хлопать дверью. Я спросил, есть ли у Натальи Васильевны ещё дела в школе, и, услышав, что дел нет, предложил проводить её до дома.
Мы вышли на улицу и попали в мелкий моросящий дождь. Он как будто замер в воздухе и висел неподвижно, как мокрая сеть, раскинутая над городом. В сети сонно покачивались дома, мосты, памятники и фонари, торопливо сновали люди.
Улица преобразила Наталью Васильевну, превратила её в одну из обязательных горожанок без возраста и особых примет. Наверное, у неё большая семья и ей надо торопиться, наверное, предстоит ещё забежать не в один магазин и сделать многие покупки и мне не следовало так задерживать её, подумал я. Там, в школе, мне казалось, что наш разговор легко может продолжиться на улице. И даже наоборот, на улице нам будет проще говорить. Теперь же оказалось, что мы обо всём уже переговорили, что оба мы торопимся и у каждого из нас есть собственные дела, а наш разговор был лишь короткой передышкой в потоке дел. Поэтому, как только Наталья Васильевна предложила мне не провожать её, я с быстрым облегчением согласился. Я сказал, что не хочу отнимать у неё дорогое время. Она улыбнулась бледной, усталой улыбкой, пообещала поговорить с Алёшей и вернуть нам потерянного артиста.
Мы простились.
Глава шестая, в которой Алёша рассказывает о переменах в его жизни
Списывать Милка не даёт. Да и не очень-то надо. Можно у Кирюхи списать, у него в домашних никогда ошибок не бывает. Отец проверяет. А теперь, после истории с разбитым окном, он готов не то что дать списать — он теперь что хочешь для меня сделает. А меня зло на Кирюху берёт: что он за мной по пятам таскается? Раньше зло не брало, а теперь, когда я услышал его разговор с матерью, берёт: тоже мне друг!..
К первой парте я привык. Даже удобнее. Когда вызывают, недалеко ходить. И когда из класса выгоняют — тоже. Шагнул — и за дверью. Кирюха хотел, чтобы меня с ним посадили. Все перемены около учительской дежурил, караулил Наталью Васильевну. Но она не разрешила. А мне наплевать, с кем сидеть. И когда Кирюха сказал, что не разрешили, мне стало смешно: он, дурак, думал, что его со мной, второгодником, посадят! Он смотрел, как я смеюсь, а потом говорит:
— Хочешь, я тебе лыжи подарю финские? Мне папа купил.
Тут я совсем разозлился: я не нищий, чтобы мне милостыню подавали.
— Ты, — говорю, — толстый, тебе лыжи нужнее. А мне зачем?
Он покраснел и отвязался. Прозвенел звонок, началась история. У историка привычка одну руку в кармане брюк держать, а другой по журналу постукивать и глазами по классу шарить, кого бы вызвать. И как только он начнёт шарить, так всегда на меня натыкается. Уставился на меня, а я не моргнул, прямо ему в глаза смотрю — он и спасовал, Милку вызвал.
У Милки от зубов отлетает всё про феодальные государства. Историк доволен, даже головой кивает. А я про студию вспоминаю. Вообще-то они там ничего устроились, на этой студии. Особенно оператор. Тот, усатый, что за мной мчался. Он-то совсем хорошо на студии устроился. Смотри себе в лупу и кнопку нажимай. Режиссёру, конечно, труднее. Ему и объяснять надо, и замечания делать, а этот сидит себе на кране — лафа! И сценарий мне нравится. Интересно, это правда или наврали про мальчишку, которого я играю? Были такие мальчишки или это писатель придумал?