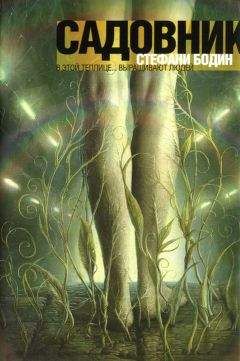Эдмондо Де Амичис - Сердце
Учительница рассказала нам еще, как одна добрая женщина ей удивительно тяжелый букет цветов, внутри которого оказалась большая горсть сольдо. Нас всех очень рассмешили эти рассказы, а мой больной братишка даже выпил лекарство, которое раньше ни за что не хотел принимать.
Какое терпенье нужно иметь с малышами приготовительного класса, беззубыми, как старички. Один из них не произносит «р», другой, «с», кто кашляет, у кого идет носом кровь, у этого свалились под парту деревянные башмаки,[15] тот хнычет, оттого что укололся пером, еще кто-нибудь плачет, потому что купил тетрадь № 2 вместо тетради № 1. В классе пятьдесят таких малышей, которые ничего не знают, у которых такие неловкие ручонки, и всех их нужно научить писать. В карманах у них и пуговицы, и пробки, и осколки кирпича, масса всякой ненужной дребедени, и учительнице приходится всё это вытряхивать вон, а малыши прячут от нее свои сокровища даже в башмаки. А как они легко отвлекаются: достаточно влететь в окно большой мухе, и уже поднимается суматоха: а летом ребятишки приносят в школу траву и майских жуков, которые кружат по классу, падают в чернильницы, а потом пачкают чернилами тетради.
Учительница должна ухаживать за своими малышами, как настоящая мама: она помогает им одеваться, перевязывает порезанные пальцы, поднимает свалившиеся береты, следит, чтобы дети не перепутали свои пальтишки, так как иначе они поднимают крик или пищат, как котята. Бедная учительница!
А матери еще приходят жаловаться! «Как это так вышло, что мой мальчик потерял свою ручку?», «А почему это мой ничему не научился?», «Отчего мой сын не получил медали? Ведь он всё знает!», «Как вы не видели, что в парте торчит гвоздь? Мой Пьеро разорвал штанишки!».
Иногда мальчики просто выводят из себя учительницу, и когда она не в силах больше терпеть, то кусает себе палец, чтобы сгоряча не дать кому-нибудь подзатыльника; бывают случаи, что она теряет терпение, но потом сама же жалеет об этом и утешает малыша, которому задала головомойку. Когда ей случится прогнать какого-нибудь шалуна домой, потом она сама раскаивается в этом и сердится на родителей, если они в наказание оставляют ребенка без обеда.
Учительница Делькати молода, стройна, всегда хорошо одета. У нее смуглое лицо, и она никогда не бывает спокойной, а всё время движется как на пружинах! Ее легко растрогать, и тогда она становится очень ласковой.
— Дети, должно быть, очень любят вас? — спросила мама.
— Многие — да, — ответила учительница, — но потом, когда год окончится, большинство не обращают больше на меня внимания. Когда они переходят в руки учителей, то начинают стыдиться, что были когда-то в классе у учительницы. После двух лет забот, после того, как привяжешься к малышу, так грустно с ним расставаться. Я часто говорю себе: «Вот этот, я уверена, будет всегда любить меня». Но проходят каникулы, он возвращается в школу, и я бегу ему навстречу: «О мой милый, милый мальчик!» Но он отворачивается, он смотрит в другую сторону… — Здесь учительница остановилась. — Но ты так не сделаешь, моя крошка? — сказала она, вставая и целуя моего брата, — ты не забудешь, не правда ли, своей первой учительницы?
Моя мать
Четверг, 10 ноября
В присутствии учительницы твоего брата ты невежливо говорил со своей матерью, Энрико! Чтобы этого никогда больше не было! Твои грубые слова пронзили мне сердце словно стальным клинком. Я вспомнил, как несколько лет тому назад мама целую ночь просидела над твоей кроваткой, прислушиваясь к твоему дыханию, плача и дрожа от страха потерять тебя. В ту ночь я боялся, что она лишится рассудка.
Сейчас я вспомнил об этом, и мне стало тяжело смотреть на тебя, Энрико. Как, ты обидел свою мать, которая отдала бы целый год счастья, чтобы избавить тебя от одного часа страданий, которая пошла бы просить милостыню, дала бы себя убить, чтобы спасти твою жизнь! Подумай об этом, Энрико. Запомни это хорошенько! Знай, что в жизни тебя ожидает много тяжелых дней, но самым тяжелым из них будет тот день, когда ты потеряешь свою мать. Когда ты станешь взрослым мужчиной, сильным, испытанным в борьбе, ты будешь мысленно тысячу раз призывать ее, Энрико, охваченный страстным желанием снова хотя бы на миг услышать ее голос и, рыдая, как беспомощный и беззащитный ребенок, снова упасть в ее объятия. С каким чувством вспомнишь ты тогда те огорчения, которые причинял ей, и с какими угрызениями совести будешь ты их пересчитывать! Не жди себе спокойствий в жизни, если ты в детстве огорчал свою мать. Ты будешь раскаиваться, просить у нее прощения, благоговейно вызывать в памяти ее образ, — напрасно!
Совесть твоя не даст тебе покоя, и образ твоей матери, нежный и добрый, всегда будет глядеть на тебя с выражением такой грусти и укоризны, что ты будешь переживать настоящую пытку.
О, Энрико, берегись! Любовь к матери — самая священная из человеческих привязанностей. Горе тому, кто осмелится попирать ее ногами!
Если убийца почитает свою мать, значит, в сердце его еще живы честность и благородство. Но самый знаменитый из людей, если он огорчает и оскорбляет свою мать, остается всего-навсего низким животным. Пусть никогда больше не вырвется у тебя грубого слова по отношению к той, которая дала тебе жизнь. А если и вырвется оно, то пусть не страх перед отцом, а порыв собственного сердца бросит тебя к ее ногам и заставит молить, чтобы поцелуй прощения смыл с твоего лба печать неблагодарности. Я люблю тебя, сын мой! Ты — самая дорогая надежда моей жизни, но я предпочел бы увидеть тебя мертвым, чем неблагодарным по отношению к матери. Теперь ступай, Энрико, и некоторое время не подходи ко мне с лаской: я не смог бы сейчас ответить тебе от чистого сердца.
Твой отец.
Мой товарищ Коретти
Воскресенье, 13 ноября
Отец простил меня, но мне всё еще было очень грустно, и мама послала меня вместе со старшим сыном нашего привратника прогуляться на улицу.
Мы прошли уже половину пути и поравнялись с лавкой, у двери которой стояла телега, как вдруг кто-то окликнул меня по имени. Я обернулся. Это был Коретти, мой товарищ по классу, в той же фуфайке шоколадного цвета и берете из кошачьего меха, потный и веселый, с вязанкой дров. Человек, стоявший на телеге, подавал ему одну вязанку за другой. Мальчик хватал их и относил в лавку своего отца.
— Что ты делаешь, Коретти? — спросил я.
— А ты разве не видишь? — ответил он, протягивая руку за очередной вязанкой дров. — Я учу уроки.
Я засмеялся. Но он говорил серьезно, и, подняв на плечо очередную вязанку, забормотал на бегу: «Спряжением глагола называется… изменение его по лицам… по лицам… по числам…» — Он успел уже сбросить вязанку: — «…в зависимости от времени… от времени… к которому относится действие». — Тут он вернулся к телеге за новой вязанкой — «…в зависимости от наклонения, в котором выражено действие…»
Это было наше задание по грамматике к завтрашнему дню.
— Вот видишь, — сказал он мне, — я не теряю даром времени. Мой отец вместе с работником ушли по делу, мать больна, и мне приходится разгружать телегу. Одновременно я повторяю грамматику. Сегодня нам задали трудный урок. Никак не могу его вбить себе в голову… Отец сказал, что вернется в семь часов и тогда отдаст вам деньги, — прибавил он, обращаясь к вознице.
Телега уехала.
— Зайди на минутку в лавку, — сказал мне Коретти.
Я вошел. Это была большая комната, загроможденная поленницами дров и хворостом. В углу стояли большие весы.
— Сегодня, скажу я тебе, выдался трудный денек, — продолжал Коретти, — и мне приходится готовить уроки урывками. Только я начал писать предложения, как пришли покупатели, только я снова сел за письмо, как прикатила телега. А сегодня утром я уже два раза сбегал на площадь Венеции, где находится дровяной рынок. Я прямо не чувствую ног от усталости, и руки у меня распухли. Плохо бы мне пришлось, если бы нам задали еще урок по рисованию! — Говоря это, Коретти подметал сухие листья и щепки, валявшиеся на кирпичном полу.
— А где же ты пишешь, Коретти? — спросил я.
— Ну, конечно, не здесь, — ответил он. — Иди, посмотри, — и он повел меня в комнатку за лавкой; эта комнатка служила одновременно и кухней и столовой. У стены стоял стол; на нем лежали книги и тетради, одна из которых была раскрыта.
— Я как раз, — сказал он, — не дописал ответа на второй вопрос. «Из кожи делают обувь, ремни…» сейчас я прибавлю еще «чемоданы», — и, взяв перо, он стал писать своим красивым почерком.
— Есть здесь кто-нибудь? — послышалось в эту минуту из лавки. Это какая-то женщина пришла купить дров.
— Иду, — отозвался Коретти, выскочил из комнатки, взвесил дрова, получил деньги, побежал в угол, записал полученную сумму в книгу и вернулся к своей работе, приговаривая: — Посмотрим, удастся ли мне окончить предложение, — и написал: «дорожные сумки, ранцы для солдат…»