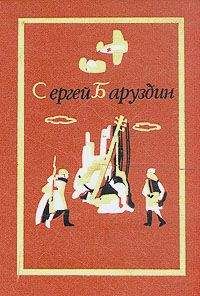Сергей Баруздин - Роман и повести
Она, настроенная еще против него, удивилась:
— Кого?
— Тебя, а кого же? — переспросил он.
Кажется, она совсем растерялась.
Буркнула:
— Варя, а что?
— Варя? — Он словно обрадовался, не заметив ее тона. — Хорошее имя — Варя. Редкое! — Потом добавил, улыбнувшись: — А тут речка Воря есть. Поблизости…
Но вот к машине бросился странный человек с папкой в руках. Он бежал по снегу и падал, бежал от дороги и кричал:
— Граждане хорошие! Граждане хорошие! Стойте!
Они и так стояли.
Старый, с непокрытой седой головой, в полурасстегнутой овчинной шубе, человек подскочил к ним и, надев на нос пенсне с одним стеклом, заговорил почти радостно, листая папку:
— Тут у меня все собрано, граждане хорошие! Все! Вот слушайте. Учтите, это документы! Сам собирал у немцев и в штабе их, когда выгнали. Так слушайте, цитирую: «Речь идет не только о разгроме государства с центром в Москве. Достижение этой исторической цели никогда не означало бы полного решения проблемы. Дело заключается скорей всего в том, чтобы разгромить русских как народ, разобщить их. Только если эта проблема будет рассматриваться с биологической, в особенности с расово-биологической, точки зрения и если в соответствии с этим будет производиться немецкая политика в восточных районах, появится возможность устранить опасность, которую представляет для нас русский народ». Это, замечу вам, не слова какого-нибудь обезумевшего эсэсовца, а инструкция начальника отдела имперского министерства по делам оккупированных восточных областей Ветцеля, лично санкционированная Розенбергом. — Старик аккуратно перевернул листок в своей папке. — А вот слова Кейтеля. Подлинные слова, цитирую, слушайте. «При этом следует иметь в виду, что человеческая жизнь в странах, которых это касается, абсолютно ничего не стоит и что устрашающее воздействие возможно лишь путем применения необычайной жестокости». Тут еще и Йодль в том же духе. А вот, вот и сам Гитлер, — заволновался старик. — Слушайте, это о партизанах. Цитирую: «Партизанская война имеет и свои преимущества: она дает нам возможность истреблять все, что восстает против нас»… И не только он. Слушайте, граждане хорошие. Вот… Вот… Гаулейтер Заукель, его слова: «Один миллион русских должен быть как можно скорее перевезен в Германию, необходимо поскорее взяться за имеющихся военнопленных». И все это, граждане хорошие, цитаты, документы! Все точно, конкретно!
Он говорил очень, очень долго. И говорил интересно, хотя и страшно — она не знала всего этого, — и все же очень, очень долго.
Уже вернулся шофер с ведром воды, залил радиатор, а старик все продолжал и продолжал листать папку:
— Тут все собрано! И приказы их, и листовочки, и инструкции. И не только их. Вот еще послушайте! Вырезка из газеты. Это уже не немец, а Трумэн, из американцев, так сказать. Из листовки их, для немцев сделанной, выписал. Вот что он говорит: «Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии, и, таким образом, пусть они убивают как можно больше». Чудовищно! Ведь это не люди, а ироды! Но ничего! Я все собираю. Все документы! Мы, придет время, судить их всех будем — всем миром, дабы лишить человеческого звания. Я уже и с генералом Жуковым говорил тут, проезжал он, и с генералом Соколовским. Все у нас тут бывали. Они меня поддержат. И уж вы, граждане хорошие, поддержите. Суд тут нужен! Мировой общественности суд!..
Шофер, не слышавший начала рассказа старика и ничего не понимающий, почти со страхом спросил:
— Папаш! А люди-то куда у вас здесь все подевались? Воды и то еле нашел…
— Вот то-то и оно, что людей-то всех вот по этим законам, — старик стукнул по своей папке, — и уничтожили! Двести человек у нас тут было жителей, все ученики, между прочим, мои, и никого не оставили, кроме меня. Я им нужен был — учитель, немецкий знаю. Так они меня со всеми погнали туда вон, на задворки, и по всем очередями, а меня оставили. Но ничего! На свою голову оставили! У меня все тут в папочке собирается! Все! Никуда им теперь не деться! Вот соберем мировой общественный суд…
Трехтонка выехала уже на дорогу, а старик со своей папкой бросился вновь к проходившим мимо машинам, и что-то кричал, и что-то доказывал, и пытался развязать папку, чтобы показать собранные им бумаги.
— Совсем плохо с ним, по-моему, — не без удивления сказала Варя.
Вспомнила: до войны у них бегал один такой по Маросейке, паровоз из себя изображал — пыхтел, пускал пары, крутил руками, как колесами, давал сигналы…
Кто-то из девушек хихикнул:
— Да, не в себе дед! «Цитирую»! «Цитирую»! Вот и учитель!
— Неизвестно, кто свихнулся больше, — вдруг сказал младший лейтенант, — он или те… Страшно все это! — Потом сказал, глядя на Варю: — Ты закутайся лучше. Холодно! Простудишься!
И ей стало стыдно своих явно глупых, только что сказанных слов и хихиканья своей соседки. И еще она подумала, что младший лейтенант совсем не такой, каким он показался ей вначале.
5
По дороге шла группа пленных немцев. Снег крупными хлопьями метался в воздухе и застилал глаза. Девушкам в кузове трехтонки и младшему лейтенанту было холодно. Всегда холодно, когда едешь вот так, а когда останавливаешься — еще холоднее. Их машина, как и многие другие — впереди и позади, — пропускала колонну пленных. Длинную, безлико стертую в этих бесконечных снегах колонну. Мела поземка, и завывал ветер в радиаторах стоявших машин, и гнулись под ветром одинокие чахлые кустики и деревца вдоль дороги, и еще больше гнулись пленные.
Их было много — сотни три, а может, и четыре, шедших по обочине, неловко проваливавшихся в снег. Ветер вздымал полы их шинелей, бил в лица и в уши под холодными касками и летними пилотками, забирался в рукава. Перчаток не было почти ни у кого из них, а о варежках и говорить смешно. Если уж на голове каска или пилотка, какие тут варежки!
Было что-то жалкое и несчастное в этих, в общем-то немолодых, обросших щетиной людях и даже какое-то чувство жалости к ним: мол, нам каково, а им, не привыкшим к нашей зиме, так легко одетым?
Снег и метель бесновались вокруг. Заметали поля, остатки разбитой немецкой техники, непохороненные трупы, могилы с немецкими касками и все, что стояло и двигалось сейчас по дороге: машины, бронетранспортеры, артиллерийские установки, сани, лошадей и людей. И эту колонну пленных, которая шла и шла мимо замерзших на дороге наших войск и машин.
Варя — от холода ли, от любопытства? — посмотрела за борт машины и сквозь метущийся снег увидела пленных. Лиц почти не видно — только снег. Головы, фигуры и снег. Фигуры, головы и снег. Но вот одна из заснеженных фигур повернулась к ней, наверно, смешной и наивной сейчас, и молодой, и непривычной (именно оттого, что она была женщиной), и Варя услышала сквозь ветер:
— Рот Фронт, геноссе! Тельман! Геноссе, Рот Фронт!
Варя разглядела чуть поднятую культяпку и запорошенный снегом рукав.
Она поразилась, ничего не ответила, а потом уже, когда их машина двинулась вперед, стала горячо рассказывать своим соседкам-девушкам:
— Понимаете, это наверняка их коммунист! Ведь он сказал…
— Все может быть, — сказал младший лейтенант. — Может быть…
— А что ж тут такого, — подтвердила одна из девушек. — Всех они подняли против нас!..
— Все они сейчас такие, — сказала другая. — Как в плен попались, так все у них — «Сталин — гут, Гитлер — капут»!.. Не верю, девочки, не верю!
А Варе хотелось верить.
Когда это было? В тридцать пятом или в тридцать шестом? Или в начале тридцать седьмого? Тогда ей было пятнадцать или четырнадцать. Весна. Да, как раз весна. Значит, тридцать седьмой. В клуб Наркомтяжпрома на их концерт пришли немецкие пионеры — дети работников Коминтерна. И потом, когда закончился концерт, они долго говорили.
— Рот Фронт! — не раз слышала она в тот вечер, и опять: — Рот Фронт!
Остальное было по-русски. Немцы отлично понимали по-русски. Ведь все они жили в Москве, а многие и родились в Москве.
После концерта они шли вместе — с площади Ногина вверх по Ильинскому скверу.
И опять она слышала по-немецки:
— Рот Фронт!
И по-русски:
— Товарищи!
Это всегда был ее самый любимый сквер. Из многих, какие она знала в Москве, любимый — сквер у Ильинских ворот. В нем было не прибрано, и деревья, и кустарники, и трава росли словно сами по себе. А в начале сквера, там, где стоит памятник героям Плевны, среди травы лежали огромные камни — черные, коричневые, серые, будто пришедшие сюда из дальних веков. И памятник — иссиня-черная часовенка с такими же черными цепями вокруг — был необычен. И надписи на нем, которые она тогда читала немецким пионерам и пыталась даже как-то объяснить, хотя уж не настолько отлично знала русскую историю: «Гренадеры своим товарищам, павшим в славном бою под Плевной 28 ноября 1877 года». Другие надписи были какие-то древнецерковные, и тогда она пыталась в них разобраться, а сейчас ни за что их не вспомнить!